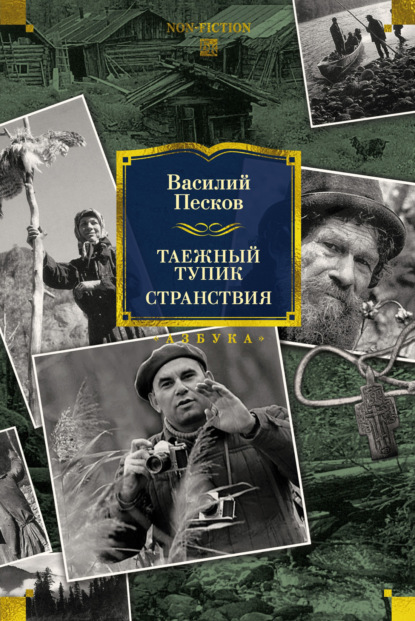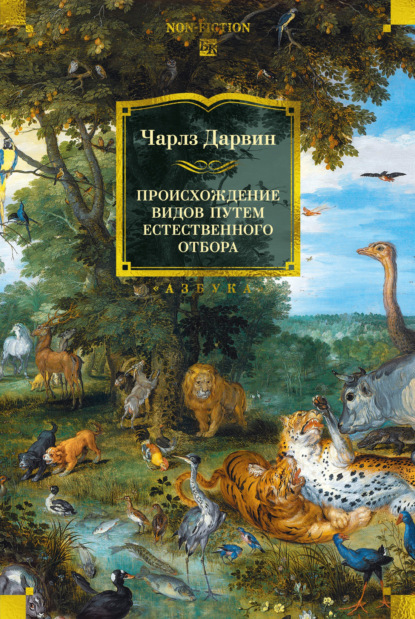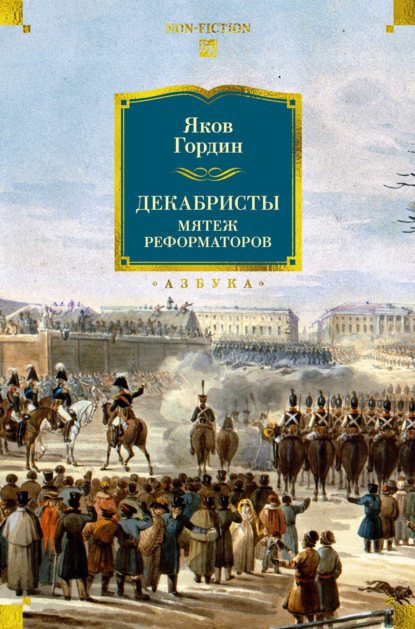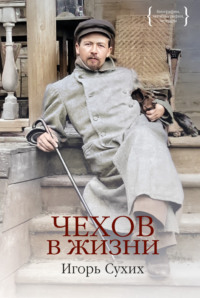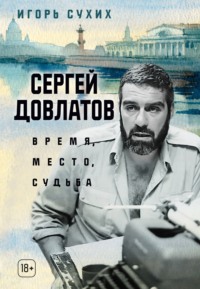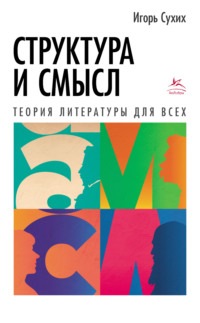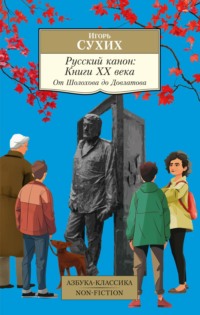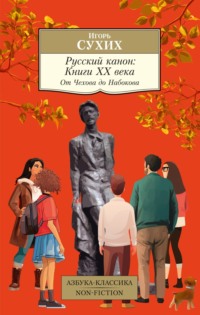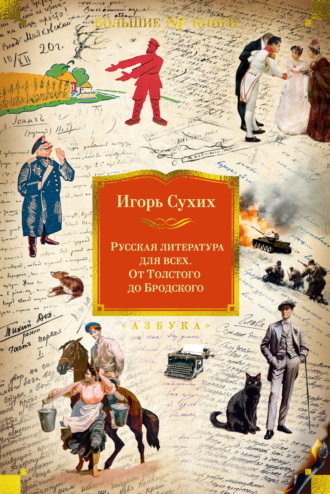
Полная версия
Русская литература для всех. От Толстого до Бродского
«Вера без дел мертва есть».
Разлад между словом, учением и делом оказывается самым мучительным конфликтом последних десятилетий жизни Толстого. Он все время хочет привести свой образ жизни в соответствие со своим вероучением и мучительно страдает от невозможности это сделать. «Много и часто думаю эти дни, молясь о том, что думал сотни, тысячи раз, но иначе, именно: что мне хочется так-то именно, распространением его истины не словом, но делом, жертвой, примером жертвы служить Богу; и не выходит. Он не велит. Вместо этого я живу, пришитый к юбкам жены, подчиняясь ей и ведя сам и со всеми детьми грязную подлую жизнь, которую лживо оправдываю тем, что я не могу нарушить любви. Вместо жертвы, примера победительного, скверная, подлая, фарисейская, отталкивающая от учения Христа жизнь» (Дневник, 17 июня 1890 г.).
Тяжба между дворянским домом и мужицкой избой приобретает у Толстого драматически неразрешимый характер. Первый понимается как вместилище всех пороков, вторая – как обитель покоя и добродетели.
С точки зрения открытых им новых старых истин Толстой отрицает практически все институты современной цивилизации: церковь, государство, суд, армию, искусство, технические усовершенствования, медицину и мясную пищу. Газетные репортеры по-прежнему называют «яснополянского старца» «маститым беллетристом», но сам он чувствует себя общественным деятелем, издателем, учителем жизни, в конце концов – сапожником (поэт Фет долго носил сшитые им сапоги), но не писателем.
То, что воспринималось многими как причуда знаменитости (или старческая причуда), на самом деле было попыткой в одиночкуисправить историю. Но не бомбой и револьвером (что в это же время делают революционеры-народники), а примером собственной жизни.
В притче «Разрушение ада и восстановление его» (1889–1902) вместе с дьяволами книгопечатания, культуры, воспитания, социализма и феминизма вокруг Вельзевула в дикой пляске кружится и дьявол разделения труда.
Создатель «Войны и мира», который в своем московском доме носит воду, тачает сапоги и убирает за собой постель, занимаясь вечерами древнееврейским языком и составляя сводный текст Евангелия, – есть живая демонстрация уничтожения противоречий между городом и деревней, между умственным и физическим трудом, противоречий, которые возникли на заре человеческой цивилизации и исчезнут бог весть когда. Дьявола разделения труда Толстому одолеть удавалось, хотя окружающим его поступки казались сумасшествием.
Главные интересы Толстого начиная с восьмидесятых годов лежат в области «прикладной», практической литературы: философии, моральной и политической публицистики. После «Исповеди» пишутся трактаты «Так что же нам делать?» и «В чем моя вера?», готовится собственный комментированный перевод Евангелия, составляются книги душеполезных изречений «Круг чтения» и «Путь жизни», появляются многочисленные статьи на разные темы (от «Не могу молчать!», протестующей против смертных казней, до «Для чего люди одурманиваются?», страстно обличающей грехи винопития и табакокурения).
Художественные произведения позднего Толстого становятся во многом иными. Прежняя эпическая полнота и объективность воспроизведения жизни «как она есть» сменяются одноплановым изображением в свете новых мировоззренческих установок. Писатель отказывается от диалектики души, подробного изложения эволюции главных героев. На смену ей приходит обобщенная характеристика персонажа, его резкие переходы из одного состояния в другое, движение от катастрофы к катастрофе.
Герои Толстого теперь становятся похожими на персонажей Достоевского, живущими в ситуации вечноговдруг. Под влиянием какого-то кризисного обстоятельства, часто на пороге смерти, герой отказывается от прежнего образа жизни, бежит из дома, приходит к Богу, открывает простые нравственные истины.
Писавший о том, как обыкновенно живут люди (и как они жили раньше), Толстой теперь страстно желает показать, какнадо (и как не надо) жить. В пятидесятые и шестидесятые годы, как мы помним, Толстой видел главную задачу искусства в эмоциональной заразительности («полюблять жизнь»). Теперь он придает ему дидактический, учительный характер. Поэтому многие произведения «нового» Толстого тяготеют к жанру притчи, прозаической басни, произведения с заранее заданным, четко следующим из сюжета моральным выводом.
В этой новой поэтике созданы повести «Смерть Ивана Ильича» (1886), «Крейцерова соната» (1887–1889), «Отец Сергий» (1890–1898), «После бала» (1903), драмы «Власть тьмы» (1886) и «Живой труп» (1900).
Но главным для позднего Толстого становится роман «Воскресение» (1889–1899). Завершенная в самом конце XIX века книга представляет новую жанровую разновидность романа. От изображения русской жизни в переломные годы Отечественной войны в романе-эпопее, через исследование семейных катастроф в психологическом романе Толстой приходит к близкой Достоевскому идее внезапного нравственного перерождения личности в жанресоциально-идеологического романа.
Герой романа, третий толстовский Дмитрий Нехлюдов (герой с таким именем уже встречался в «Отрочестве» и повести «Люцерн») в юности соблазняет дворовую девушку, потом внезапно узнает ее в суде, вдруг чувствует ложь своей прежней жизни и, зарабатывая прощение, следует за Катюшей Масловой на каторгу. Прощенный, но отвергнутый ею, он, как и сам Толстой,воскресает, читая Евангелие.
С точки зрения обретенных им простых истин Толстой в очередной раз с потрясающей силой и сарказмом критикует не только государство, но и официальную церковь, которой он противопоставляет личное христианство, индивидуальное отношение к религии. Вскоре последовала ответная реакция: в феврале 1901 года «лжеучитель граф Лев Толстой» был отлучен от церкви.
Консервативный журналист, издатель газеты «Новое время» А. С. Суворин, который отнюдь не был сторонником Толстого, записывает в это время в дневнике: «Два царя у нас: Николай II и Лев Толстой. Кто из них сильнее? Николай II ничего не может сделать с Толстым, не может поколебать его трон, тогда как Толстой, несомненно, колеблет трон Николая и его династии. Его проклинают, Синод имеет против него свое определение. Толстой отвечает, ответ расходится в рукописях и в заграничных газетах. Попробуй кто тронуть Толстого. Весь мир закричит, и наша администрация поджимает хвост». В конце этой записи Суворин сводит счеты со «скудоумными правителями», оказываясь тайным соратником Толстого: «Но долго ли протянется эта безурядица? Хоть умереть с этим убеждением, что произвол подточен и совсем не надо бури, чтобы он повалился. Обыкновенный ветер его повалит» (29 мая 1901 г.).
Таким образом, слово и дело Толстого оказывается «зеркалом», сейсмографом будущих катаклизмов для представителей самых разных общественных лагерей – от Суворина до Ленина.
Уход: из дома – в историю
Имевший огромный авторитет и влияние во всем мире, Толстой много лет находился в сложном положении в собственном доме. «Толстовство» вызвало семейный раскол. Отказ писателя от прав литературной собственности, общественные выступления, религиозные убеждения не находили сочувствия у жены и некоторых детей, воспринимались как старческие упрямство и блажь. Другие дети, напротив, поддерживали отца и помогали ему в работе.
Некоторые последователи тоже использовали толстовство в своих целях, играли в модную теорию. «Помню, как один из таких апостолов в Ясной Поляне отказывался есть яйца, чтобы не обидеть кур, а на станции Тула аппетитно кушал мясо и говорил: „Преувеличивает старичок!“» – возмущался М. Горький.
«Великий писатель земли русской», пророк, учитель жизни временами напоминал яснополянского короля Лира, героя так нелюбимого им Шекспира, покинутого и преданного своими близкими.
«А. П. Чехов сказал мне, уходя от него: „Не верю я, что он не был счастлив“, – вспоминал Горький. – А я – верю. Не был».
Впервые пришедшему к нему молодому Бунину Толстой пожелал: «Не ждите многого от жизни, лучшего времени, чем теперь, у вас не будет… Счастья в жизни нет, есть только зарницы его – цените их, живите ими…»
Он так много думал об этом, так часто проигрывал «сюжет ухода» в судьбе своих героев («Отец Сергий», «Живой труп», «Посмертные записки старца Федора Кузмича»), что последний штрих в «художественном произведении своей жизни» оказывался неизбежным.
В ночь с 27 на 28 октября 1910 года Толстой уходит из Ясной Поляны – в неизвестность. Его путь завершается на безвестной станции Астапово 7 ноября в шесть часов пять минут утра.
«Искать, все время искать», – произносит он в предсмертном бреду. И еще: «Только одно советую вам помнить, что на свете есть много людей, кроме Льва Толстого, а вы смотрите только на одного Льва». И еще, совсем уже неразборчиво: «Истина… Я люблю много… Как они…»
Поиск истины Толстой продолжал до последнего мгновения своей жизни.
В только лишь начатых толстовских воспоминаниях самые, пожалуй, трогательные страницы посвящены брату Николаю и придуманной им легенде о зеленой палочке. «Так вот, он-то, когда нам с братьями было – мне 5, Митеньке 6, Сереже 7 лет, объявил нам, что у него есть тайна, посредством которой, когда она откроется, все люди сделаются счастливыми, не будет ни болезней, никаких неприятностей, никто ни на кого не будет сердиться и все будут любить друг друга, все сделаются муравейными братьями. 〈…〉 Эта тайна была, как он нам говорил, написана им на зеленой палочке, и палочка эта зарыта у дороги, на краю оврага старого Заказа, в том месте, в котором я, так как надо же где-нибудь зарыть мой труп, просил в память Николеньки закопать меня».
Это нарочитое завещание(зарыть – закопать) было исполнено.
Труднее оказалось исполнить его заветы и принять его ответы.
На долгие десятилетия он стал официозным «зеркалом русской революции». Но последние толстовские колонии были разгромлены после революции, в конце двадцатых годов, и последователи «зеркала» пошли в лагеря.
В. Т. Шаламов, замечательный писатель XX века, летописец и мученик Колымы, не раз писал о Толстом с откровенной, тяжелой неприязнью. «Вершиной антипушкинского начала в русской прозе можно считать Л. Н. Толстого. И по своим художественным принципам, и по своей претенциозной личной жизни моралиста и советчика. 〈…〉 Русские писатели-гуманисты второй половины XIX века несут на душе великий грех человеческой крови, пролитой под их знаменем в XX веке. Все террористы были толстовцы и вегетарианцы, все фанатики – ученики русских гуманистов. Этот грех им не замолить».
Но тот же Шаламов, прочитав «Доктора Живаго», сравнил Пастернака прежде всего с Толстым. «Я никогда не писал Вам о том, что мне всегда казалось – что именно Вы – совесть нашей эпохи – то, чем был Лев Толстой для своего времени».
Сам Пастернак, видевший Толстого всего один раз в жизни, в детстве, объявит себя наследником Толстого как раз во время работы над «Доктором Живаго»: «И все же главное и непомернейшее в Толстом то, что больше проповеди добра и шире его бессмертного художнического своеобразия… новый род одухотворения в восприятии мира и жизнедеятельности, то новое, что принес Толстой в мир и чем шагнул вперед в истории христианства, стало и по сей день осталось основою моего существования, всей манеры моей жить и видеть. Я думаю, что я в этом отношении не одинок, что в таком положении находятся люди из лагеря, считающегося нетолстовским, то есть я хочу сказать, что, вопреки всем видимостям, историческая атмосфера первой половины XX века во всем мире – атмосфера толстовская» (Н. С. Родионову, 27 марта 1950 г.).
Основные даты жизни и творчества
1828, 28 августа (9 сентября) – родился в Ясной Поляне Тульской губернии.
1844–1847 – учеба в Казанском университете.
1851–1854 – военная служба на Кавказе.
1852 – повесть «Детство».
1854–1855 – участие в Крымской войне.
1862 – женитьба на С. А. Берс.
1863–1869 – работа над романом-эпопеей «Война и мир».
1873–1877 – работа над семейно-психологическим романом «Анна Каренина».
1879–1882 – философско-публицистический трактат «Исповедь», перелом в мировоззрении Толстого, формирование «толстовства».
1889–1899 – работа над романом «Воскресение».
1901 – отлучение Толстого от церкви.
1910, 28 октября – уход из Ясной Поляны.
1910, 7 (20) ноября – смерть на станции Астапово.
«Война и мир»
(1863–1869)
Жанр: «русская Илиада»
А. Ахматова как-то сравнила пушкинский роман с облаком:
«Онегина» воздушная громада,Как облако, стояла надо мной.«Война и мир» – это огромный айсберг, который внезапно всплыл в русской литературе шестидесятых годов. Его объем и очертания далеко не сразу стали ясны современникам.
Эта книга была итогом: беспощадных самонаблюдений в дневнике и споров с петербургскими литераторами, жизни среди простых людей на Кавказе и пребывания под бомбами на бастионах Севастополя, хозяйствования в Ясной Поляне и общения в светских салонах, преподавания в крестьянской школе и знакомства с европейской цивилизацией, поездки на Бородинское поле и работы в архивах, чтения многочисленных исторических источников и бесед с современниками великих событий.
Еще в начале 1850-х годов, прочитав «Описание войны в 1812 году» историка А. И. Михайловского-Данилевского, Толстой запишет в дневнике: «Составить истинную правдивую историю Европы нынешнего века – вот цель на всю жизнь» (22 сентября 1852 г.). К идее он вернулся через десятилетие, но уже не как историк, а как писатель.
В феврале 1863 года С. А. Толстая, молодая жена (она замужем всего полгода) и теперь вечный летописец яснополянской жизни, сообщит сестре Татьяне (той самой, которая будет узнавать себя в Наташе Ростовой): «Лева начал новый роман».
В конце этого года Толстой признается знакомому: «Я все пишу длинный роман, который кончу, ежели долго проживу» (И. П. Борисову, 19 декабря 1863 г.).
Черновики «Войны и мира» составляют десятки тысяч страниц. За годы этой титанической работы многократно менялось все: тема, время действия, состав и характеристика персонажей, заглавие.
Наиболее подробно Толстой рассказал о своем замысле в наброске Предисловия к роману. «В 1856 году я начал писать повесть с известным направлением, героем которой должен быть декабрист, возвращающийся с семейством в Россию. Невольно от настоящего я перешел к 1825 году, эпохе заблуждений и несчастий моего героя, и оставил начатое. Но и в 1825 году герой мой был уже возмужалым человеком. Чтобы понять его, мне нужно было перенестись к его молодости, и молодость его совпадала со славной для России эпохой 1812 года. Я другой раз бросил начатое и стал писать со времени 1812 года, которого еще запах и звук слышны и милы нам, но которое уже настолько отделено от нас, что мы можем думать о нем спокойно. Но и в третий раз я оставил начатое… 〈…〉 В третий раз я вернулся назад по чувству, которое, может быть, покажется странным большинству читателей, но которое, надеюсь, поймут именно те, мнением которых я дорожу: я сделал это по чувству, похожему на застенчивость и которое не могу определить одним словом. Мне совестно было писать о нашем торжестве в борьбе с бонапартовской Францией, не описав наших неудач и нашего срама. Кто не испытывал того скрытого, но неприятного чувства застенчивости и недоверия при чтении патриотических сочинений о 12-м годе? Ежели причина нашего торжества была не случайна, но лежала в сущности характера русского народа и войска, то характер этот должен был выразиться еще ярче в эпоху неудач и поражений».
Так, путем последовательной ретроспекции определились хронологические границы книги. Начинаясь в петербургские белые ночи 1805 года, роман (его сюжетная часть) заканчивается зимним декабрьским вечером 1820 года в предвидении новых катастроф, не добравшись ни до восстания декабристов, ни до возвращения Пьера и Наташи из Сибири. Пробежав назад по ступенькам лет (1856–1825–1812–1805), писатель так и не вернулся в современность, оставив героев на пороге неизвестного будущего. Открытость будущему стала для Толстого в процессе работы принципиальной установкой.
В процессе работы Толстого все время волновала и другая проблема – проблемажанра.
«Мы, русские, вообще не умеем писать романов в том смысле, в котором понимают этот род сочинений в Европе, и предлагаемое сочинение не есть повесть, в нем не проводится никакой одной мысли, ничто не доказывается, не описывается какое-нибудь одно событие; еще менее оно может быть названо романом, с завязкой, постоянно усложняющимся интересом и счастливой или несчастливой развязкой, с которой уничтожается интерес повествования», – объявил он в Предисловии.
А уже завершая работу, написал и опубликовал статью-послесловие «Несколько слов по поводу книги „Война и мир“» (1868), где начал свои объяснения как раз с жанра. «Что такое „Война и мир“? Это не роман, еще менее поэма, еще менее историческая хроника. „Война и мир“ есть то, что хотел и мог выразить автор в той форме, в которой оно выразилось. Такое заявление о пренебрежении автора к условным формам прозаического художественного произведения могло бы показаться самонадеянностью, ежели бы оно было умышленно и ежели бы оно не имело примеров. История русской литературы со времени Пушкина не только представляет много примеров такого отступления от европейской формы, но не дает даже ни одного примера противного. Начиная от „Мертвых душ“ Гоголя и до „Мертвого дома“ Достоевского, в новом периоде русской литературы нет ни одного художественного прозаического произведения, немного выходящего из посредственности, которое бы вполне укладывалось в форму романа, поэмы или повести».
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.