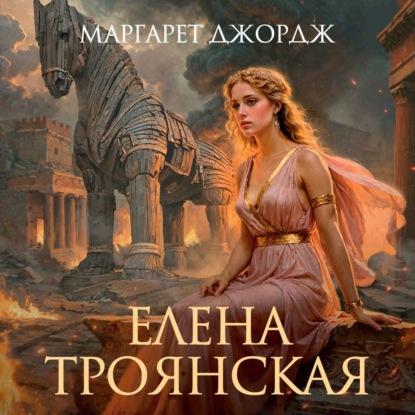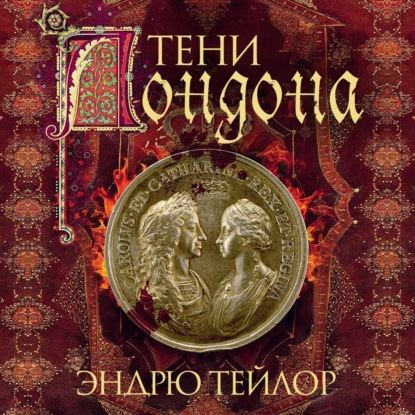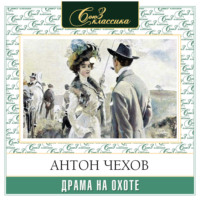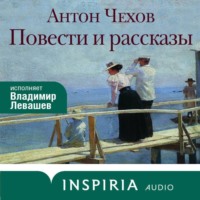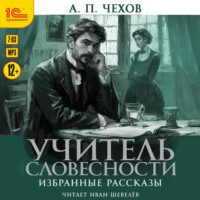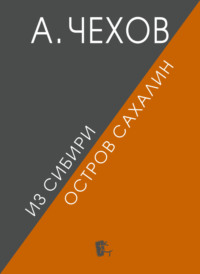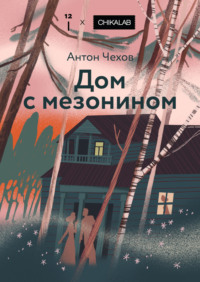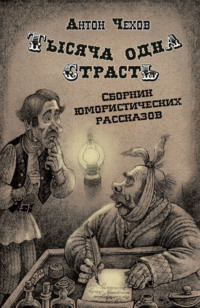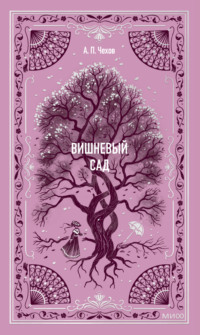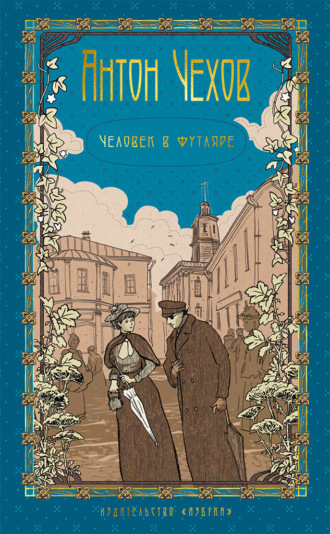
Полная версия
Человек в футляре
Внезапность и простота человеческого конца в обыденнейшей атмосфере, лишенной всякого намека на лиризм, сентиментальность, красивость, отсутствие какой бы то ни было «тайны» поражает в этих сходных чеховских сюжетах.
Иногда такой сюжет принимает едва ли не «формульный» вид, сжимается до анекдота. В миниатюре «О бренности» герой «сел за стол, покрыл свою грудь салфеткой и, сгорая нетерпением, стал ожидать того момента, когда начнут подавать блины». Дальше подробно описаны напитки и закуски, наконец-то принесенные кухаркой блины и… «…Он положил на блины самый жирный кусок семги, кильку и сардинку, потом уж, млея и задыхаясь, свернул оба блина в трубку, с чувством выпил рюмку водки, крякнул, раскрыл рот… Но тут его хватил апоплексический удар».
Конечно, эта «масленичная тема для проповеди» чисто анекдотична. Но сходная, в сущности, ситуация лежит и в основе того ненаписанного водевиля, о котором Чехов через много лет расскажет Т. Щепкиной-Куперник:
«Нас застиг дождь, и мы пережидали его в пустой риге. Чехов, держа мокрый зонтик, сказал: „Вот бы надо написать такой водевиль: пережидают двое дождь в пустой риге, шутят, смеются, сушат зонты, в любви объясняются – потом дождь проходит, солнце, – и вдруг он умирает от разрыва сердца!“ – „Бог с вами! – изумилась я. – Какой же это будет водевиль?“ – „А зато жизненно. Разве так не бывает? Вот шутим, смеемся – и вдруг – хлоп!
Конец!“»[6]
Смысл такого взгляда, пожалуй, хорошо передает сентенция булгаковского героя: «Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!»
Большинство героев чеховских рассказов, о которых идет речь, не так искушены, как Воланд, они не встречались с «беспокойным стариком» Иммануилом Кантом и даже не слыхали о нем, но их простые мысли и слова обращены к той же загадке:
«И как на этом свете все скоро делается!» («Горе»). «Да… Стар уж стал я ездить… Сыну бы ездить, а не мне… То настоящий извозчик был… Жить бы только… ‹…› Так-то, брат кобылочка… Нету Кузьмы Ионыча… Приказал долго жить… Взял и помер зря…» («Тоска»). «И Писание ясно указывает на суету скорби, и размышление… но отчего же душа скорбит и не хочет слушать разума? Отчего горько плакать хочется? ‹…› Умри я или кто другой, оно бы, может, и незаметно было, но ведь Николай умер! Никто другой, а Николай!» («Святой ночью»). «Жил человек и помер! ‹…› Сегодня утром тут по двору ходил, а теперь мертвый лежит» («В сарае»).
К концу 1880-х гг., после жестокой натуралистичности «Спать хочется» и размышлений в «Степи» об «одиночестве, которое ждет каждого из нас, и могиле», этот мотив генерализуется, становится предметом специального исследования в повестях «Огни» и «Скучная история».
В «Огнях» история инженера Ананьева призвана опровергнуть философию «мировой скорби» (еще раз такой образ мысли будет воспроизведен и исследован в «Палате № 6», некоторые суждения Ананьева кажутся набросками рагинских размышлений и сюжетных ситуаций «Палаты»). Мысль о неизбежности смерти («пессимизм»), по мнению героя, может быть, закономерна и оправданна лишь в старости: «Их (стариков. – И. С.) пессимизм является к ним не извне, не случайно, а из глубины собственного мозга и уж после того, как они проштудируют всяких Гегелей и Кантов (вот и у Чехова появился Кант. – И. С.), настрадаются, наделают тьму ошибок, одним словом, когда пройдут всю лестницу от низу до верху. Их пессимизм имеет за собой и личный опыт, и прочное философское развитие». Сознание же молодых «виртуозов» она разрушает, ибо ведет к нравственному релятивизму: «Кто знает, что жизнь бесцельна и смерть неизбежна, тот очень равнодушен к борьбе с природой и к понятию о грехе: борись или не борись – все равно умрешь и сгниешь… наше мышление, отрицая смысл жизни, тем самым отрицает и смысл каждой отдельной личности. Понятно, что если я отрицаю личность какой-нибудь Натальи Степановны, то для меня решительно все равно, оскорблена она или нет».
Впрочем, этот идейный итог, как всегда у Чехова, корректируется «нелогичной» жизнью. Истина Ананьева вовсе не обязательна для студента Штернберга («Никто ничего не знает, и ничего нельзя доказать словами»), что осознает и сам инженер: «Убедить вас невозможно! Дойти до убеждения вы можете только путем личного опыта и страданий…»
Между «Огнями» и «Скучной историей» Чехов пережил смерть брата. «…Гроб пришлось видеть у себя впервые» (П 3, 227). И это потрясение, безусловно, отозвалось в последней повести, отозвалось не в сюжете, а в глубинной, мировоззренческой сути.
В «Скучной истории» Чехов словно делает следующий шаг. То, что для героев «Огней» было более или менее отдаленной перспективой, было все-таки «философией», он делает непосредственным фактом жизни старого профессора. Герой знает (это обстоятельство учитывается далеко не всегда) о своем скором конце. И его размышления на самые, казалось бы, случайные темы есть, в сущности, подведение жизненных итогов, поиски смысла в пограничной, «экзистенциальной» ситуации.
Ананьев, который «находился в той самой поре, которую свахи называют „мужчина в самом соку“», считал, что соломоново «суета сует» к старости должно восприниматься спокойно, но 62-летний профессор Николай Степанович не защищен от страха и сомнений ни своим научным мировоззрением, ни именем, ни семьей и учениками: «…Душу мою гнетет такой ужас, как будто я вдруг увидел громадное зловещее зарево… Ужас у меня безотчетный, животный, и я никак не могу понять, отчего мне страшно, оттого ли, что хочется жить, или оттого, что меня ждет новая, еще неизведанная боль?»
Однако эта «физиология» чувства сочетается у старого профессора с бескомпромиссностью и последовательностью мысли. «Его вилянье перед самим собой», о котором говорил Чехов в письме (П 3, 252), в наименьшей степени касается смерти. Герой не только ставит себе диагноз («мне отлично известно, что проживу я еще не больше полугода»), строго оценивает итоги жизни, но и спокойно заглядывает «за край», в мир без него: «Теперь мое имя безмятежно гуляет по Харькову, месяца через три оно, изображенное золотыми буквами на могильном памятнике, будет блестеть, как самое солнце, – и это в то время, когда я буду уж покрыт мхом».
Простая картина, фантастичнее которой не может создать даже самый головокружительный полет воображения. Еще раз развернутая разработка этого мотива будет дана в рассказе «Гусев» (1890).
В свое время М. М. Бахтин в «Проблемах поэтики Достоевского» предложил сравнительный анализ толстовских «Трех смертей» и построенной им аналогичной сюжетной модели у Достоевского. «Барыня видит и понимает только свой мирок, свою жизнь и свою смерть, она даже не подозревает о возможности такой жизни и смерти, как у ямщика и у дерева, – пишет Бахтин. – Поэтому сама она не может понять и оценить всю ложь своей жизни и смерти: у нее нет для этого диалогизирующего фона. И ямщик не может понять и оценить мудрости и правды своей жизни и смерти. Все это раскрывается только в избыточном авторском кругозоре. Дерево, конечно, и по природе своей не способно понять мудрость и красоту своей смерти, – это делает за него автор. Таким образом, завершающий тотальный смысл жизни и смерти каждого персонажа раскрывается только в авторском кругозоре…»[7]
По Бахтину, в монологическом мире Толстого три изображенные смерти иерархически соотнесены: ложь, «мелкость» смерти барыни – мудрость и правда угасания ямщика – мудрость и красота гибели дерева.
«Достоевский прежде всего заставил бы все три плана отражаться друг в друге, связал бы их диалогическими отношениями, – продолжает размышление М. М. Бахтин. – Жизнь и смерть ямщика и дерева он ввел бы в кругозор и сознание барыни, а жизнь барыни в кругозор и сознание ямщика».
Но такой сюжет оказывается для Достоевского нехарактерным. «Достоевский никогда не изобразил бы трех смертей: в его мире, где доминантой образа человека является самосознание, а основным событием – взаимодействие полноправных сознаний, смерть не может иметь никакого завершающего и освещающего жизнь значения. Смерть в толстовском ее осмыслении в мире Достоевского отсутствует. Для мира Достоевского характерны убийства (изображенные в кругозоре убийцы), самоубийства и помешательства. Обычных смертей у него мало, и о них он обычно только осведомляет»[8] (две последние фразы вынесены у М. М. Бахтина в примечание. – И. С.).
Однако в диалогическом мире Достоевского смерть (или самоубийство) – тоже аргумент в «большом диалоге». Она тоже по-своему «освещает» значение жизни, тоже включена в некую иерархию (кончина Зосимы – самоубийство Кириллова или Ставрогина).
Чеховский «Гусев» структурно напоминает Толстого. Перед нами «три смерти» на возвращающемся с Сахалина в Россию пароходе. «У моря нет ни смысла, ни жалости», – думает Гусев. Ни смысла, ни жалости нет и у смерти. Умирает солдат Степан, о котором известно только то, что он играл в карты; умирает «воплощенный протест», Павел Иванович, российский фанатик-правдолюбец, в чем-то неприятный, но в своих обличениях идущий до конца («Отрежь мне язык – буду протестовать мимикой, замуравь меня в погреб – буду кричать оттуда так, что за версту будет слышно, или уморю себя голодом, чтоб на их черной совести одним пудом было больше, убей меня – буду являться тенью»); умирает и Гусев, бывший мужик и солдат, этого интеллигентского языка абсолютно не понимающий, язычески считающий, что на краю света к стене цепями прикованы злые ветры. Но эти смерти – не урок и не аргумент. Они иерархически не соотнесены. Смерть беспощадно уравнивает очень разных людей.
Такая прямота и жесткость взгляда характерна для Чехова. «Бог делает умно: взял на тот свет Толстого (Д. А. Толстой – министр внутренних дел. – И. С.) и Салтыкова и таким образом помирил то, что нам казалось непримиримым, – напишет он незадолго до „Гусева“. – Теперь они оба гниют, и оба одинаково равнодушны» (А. С. Суворину, 4 мая 1889 г.; П 3, 205).
И природа существует в этом рассказе тоже не как аргумент (смерть дерева у Толстого, «клейкие листочки» у Достоевского), а как параллельный, прекрасно-равнодушный мир.
Уже один из чеховских современников в связи с «Гусевым» вспомнил заключительное четверостишие из пушкинского «Брожу ли я вдоль улиц шумных…»:
И пусть у гробового входаМладая будет жизнь игратьИ равнодушная природаКрасою вечною сиять.Аналогия оправданная, но, пожалуй, излишне «оптимистическая»: нет в финале «Гусева» «младой жизни» и «гробового входа», а есть стая акул, нападающая на сброшенный в океан труп умершего солдата.
С большим, на наш взгляд, основанием можно было бы в данном случае вспомнить одно из последних стихотворений Тютчева – «От жизни той, что бушевала здесь…», – развивающее сходную тему, но с акцентом не на будущем («младая жизнь»), а на прошлом:
Природа знать не знает о былом.Ей чужды наши призрачные годы.И перед ней мы смутно сознаемСебя самих – лишь грезою природы.Поочередно всех своих детей,Свершающих свой подвиг бесполезный,Она равно приветствует своейВсепоглощающей и миротворной бездной[9].Мысль о «полном равнодушии» природы «к жизни и смерти каждого из нас», в котором, быть может, «залог нашего вечного спасения, непрерывного движения жизни на земле», впоследствии столь же отчетливо прозвучала в «Даме с собачкой».
Такая позиция обозначает резкую грань между Чеховым и его великими современниками. Для Толстого, Достоевского с их нравственно-религиозными поисками существует некая единая философия жизни и смерти, жизнесмерти. Их взор устремлен за грань, в другую жизнь. «Куда он ушел? Где он теперь?..» – думает Наташа Ростова, стоя у тела только что умершего князя Андрея. «Если человек научился думать, – про что бы он ни думал, – он всегда думает о своей смерти. Так все философы. А какие же истины, если будет смерть?» – записал Горький слова Толстого[10].
Для Чехова же существует лишь проблема и философия жизни, об ином он говорить отказывается. «Для Толстого и Достоевского смерть, Бог – не граница. Сплошь и рядом отсюда они только начинают. Чехов здесь кончает. Подводя к некоему пределу, он предоставляет сознание читателя собственному (мистическому) опыту»[11], – замечает А. П. Чудаков.
Думается, что Чехов кончает все-таки не потому, что надеется на мистический опыт читателя. Если его герой и заглядывает «за грань» («Скучная история»), он видит там не загадку, не тайну, а тот же обычный и привычный мир, но мир без него. Оправданным кажется объяснение того, почему Чехов кончает раньше Достоевского и Толстого, данное С. П. Залыгиным: «А иные явления наш писатель из области таинственного перевел в область очевидного. Самое потустороннее – смерть – отнес не к ней самой, а к жизни. Событие жизни, больше ничего… Тем более что ничего за ним уже не следует… Люди при виде смерти теряют у него обычную наблюдательность – она нужна для жизни. Для смерти она ни к чему»[12].
В записных книжках Чехова об этом сказано предельно лаконично: «Ни одна наша смертная мерка не годится для суждения о небытии, о том, что не есть человек» (17, 101).
С Толстым на этой почве Чехов однажды вступил в прямой спор, причем в тот момент, когда он был намного ближе к своему концу, чем его старший современник.
Дневниковая запись Чехова: «С 25 марта по 10 апреля (1897 г. – И. С.) лежал в клинике Остроумова. Кровохарканье. В обеих верхушках хрипы, выдох; в правой притупление. 28 марта приходил ко мне Толстой Л. Н.; говорили о бессмертии» (17, 225).
Содержание разговора подробно передано в чеховском письме: «В клинике у меня был Лев Николаевич, с которым вели мы преинтересный разговор, преинтересный для меня, потому что я больше слушал, чем говорил. Говорили о бессмертии. Он признает бессмертие в кантовском вкусе; полагает, что все мы (люди и животные) будем жить в начале (разум, любовь), сущность и цели которого для нас составляют тайну. Мне же это начало или сила представляется в виде бесформенной студенистой массы; мое я – моя индивидуальность, мое сознание сольются с этой массой – такое бессмертие мне не нужно, я не понимаю его, и Лев Николаевич удивляется, что я не понимаю» (М. О. Меньшикову, 16 апреля 1897 г.; П 6, 332).
Чуть позднее, 23 июля 1897 года, А. С. Суворин фиксирует в дневнике сходную чеховскую мысль: «Смерть – жестокость, отвратительная казнь. Если после смерти уничтожается индивидуальность, то жизни нет. Я не могу утешаться тем, что сольюсь с козявками и мухами в мировой жизни, которая имеет цель. Я даже этой цели не знаю. Смерть возбуждает нечто большее, чем ужас. Но когда живешь, об ней мало думаешь. Я, по крайней мере. А когда буду умирать, увижу, что это такое. Страшно стать ничем. Отнесут тебя на кладбище, возвратятся домой и станут чай пить и говорить лицемерные речи. Очень противно об этом думать»[13].
Чехов относится к проблеме смерти скорее не как философ, а как обычный человек. Он не бежит от горького знания, но отодвигает его, вполне согласно духу русской пословицы: «Умереть сегодня – страшно, а когда-нибудь – ничего».
Спор с Толстым словно продлен и развернут в чисто чеховскую плоскость: страшно не просто стать ничем, но и то, что после этого станут, как обычно, спокойно пить чай и говорить лицемерные речи.
Еще позднее, в записной книжке, тема окончательно объективируется, теряет свою «метафизическую» часть, превращаясь в скрыто парадоксальный, характерно чеховский «сюжет для небольшого рассказа»: «Глядя в окно на покойника, которого несут: „…Ты умер, тебя на кладбище несут, а я завтракать пойду“» (17, 95).
Возможен ли для Чехова иной взгляд на проблему смерти и бессмертия? Воспоминания И. А. Бунина вроде бы показывают, что возможен. «Что думал он о смерти? Много раз старательно-твердо говорил он мне, что бессмертие, жизнь после смерти в какой бы то ни было форме – сущий вздор: „Это суеверие. А всякое суеверие ужасно. Надо мыслить ясно и смело. Мы как-нибудь потолкуем с Вами об этом основательно. Я, как дважды два – четыре, докажу Вам, что бессмертие – вздор“. Но потом несколько раз еще тверже говорил прямо противоположное: „Ни в коем случае не можем мы исчезнуть без следа. Обязательно будем жить после смерти. Бессмертие – факт. Вот погодите, я докажу вам это“. Но так и не доказал»[14].
Однако этот второй вариант рассматривается Чеховым редко (примечательно бунинское «много раз – несколько раз»), причем почти всегда как факт сознания того или иного героя (художник в «Доме с мезонином»). Высказывая оптимистический тезис, Чехов, вероятно, не мог не учитывать и характер своего собеседника, для которого, как и для Толстого, был характерен постоянный страх перед смертью, «„исступленно-страдальческое“ отношение к ней»[15].
Говоря же «от себя», Чехов твердо настаивает только на одном члене обозначенной в разговорах с Буниным антиномии.
«Все равно, рано или поздно, умрем, стало быть, хандрить по меньшей мере нерасчетливо» (К. С. Баранцевичу, 15 апреля 1890 г.; П 4, 61).
«Мне кажется, что жить вечно было бы так же трудно, как всю жизнь не спать» (А. С. Суворину, 17 декабря 1890 г.; П 4, 146).
«…А я лично даже смерти и слепоты не боюсь» (А. С. Суворину, 25 ноября 1892 г.; П 5, 133).
«Все исцеляющая природа, убивая нас, в то же время искусно обманывает, как нянька ребенка, когда уносит его из гостиной спать. Я знаю, что умру от болезни, которой не буду бояться» (А. С. Суворину, 24 августа 1893 г.; П 5, 229).
Давно отмечено и общепризнано, что Чехов ведет повествование «в тоне и духе героя», причем увиденное персонажем практически всегда может быть верифицировано, подвергнуто проверке. В этом правиле есть, пожалуй, лишь одно исключение, связанное с художественным опытом Толстого. В знаменитой сцене смерти Праскухина из «Севастополя в мае» Толстой развернул, наполнил бесконечно противоречивыми и разнообразными мыслями, эмоциями, ассоциациями последнее мгновение в жизни человека, дал некий конспект того, что впоследствии назовут «потоком сознания». Потом, в «Войне и мире», «Анне Карениной», этот способ психологического анализа неоднократно повторялся им и варьировался.
Сходный, но весьма лаконичный, изобразительный прием – сокращенный «поток сознания» – не раз повторяется и в прозе Чехова. Разным персонажам, часто не выдержавшим испытания на человечность, Чехов дарует на пороге смерти мгновение истины, красоты, которое уже ничего не изменит.
В «Володе» уже после выстрела самоубийца увидит «покойного отца в цилиндре с широкой черной лентой». В «Палате № 6» мимо умирающего от апоплексического удара доктора Рагина пробежит «стадо оленей, необыкновенно красивых и грациозных, о которых он читал вчера». Магистр Коврин в «Черном монахе» в последнее мгновение «звал большой сад с роскошными цветами, обрызганными росой, звал парк, сосны с мохнатыми корнями, ржаное поле…». Преосвященному Петру в «Архиерее» представится, что он «идет по полю быстро, весело, постукивая палочкой, а над ним широкое небо, залитое солнцем…»
Но потом придут мужики, возьмут за руки и за ноги и отнесут в часовню, и на полу около лица натечет большая лужа крови, и вошедший келейник скажет, что преосвященный приказал долго жить. На мгновение, силой художественного воображения, остановленная жизнь снова пойдет своим чередом, без одного, без другого, без каждого. И в ней даже не будет такого утешения, как «вечная память».
В раннем рассказе «На кладбище» (1884) мелькнул такой эпизод: «Насилу мы нашли могилу актера Мушкина. Она осунулась, поросла плевелом и утеряла образ могилы… Маленький дешевый крестик, похилившийся и поросший зеленым, почерневшим от холода мхом, смотрел старчески уныло и словно хворал. „…забвенному другу Мушкину…“ – прочли мы. Время стерло частицу не и исправило человеческую ложь».
В рассказе-завещании «Архиерей», почти через двадцать лет, мотив возвратится: «Через месяц был назначен новый викарный архиерей, а о преосвященном Петре уже никто не вспоминал. А потом и совсем забыли. И только старуха, мать покойного, которая живет теперь у зятя-дьякона, в глухом уездном городишке, когда выходила под вечер, чтобы встретить свою корову, и сходилась на выгоне с другими женщинами, то начинала рассказывать о детях, о внуках, о том, что у нее был сын архиерей, и при этом говорила робко, боясь, что ей не поверят… И ей в самом деле не все верили».
Жизнь – смерть – забвение… Этот процесс неизбежен и универсален (Чехов распространял его и на себя: «меня будут читать только семь лет»), его нельзя избежать, «хотя бы был Александром Македонским», и природа «равнодушна к жизни и смерти каждого из нас», – но все же что-то держит человека, не дает ему отчаяться, заставляет его «по мере сил исполнять свой долг – и больше ничего» (М. П. Чеховой, 13 ноября 1898 г.; П 7, 327). Это что-то невозможно рационально определить, но оно объективно существует, оно посюсторонне, принадлежит этой жизни.
Любимым своим рассказом Чехов называл «Студента». «Напишут о ком-нибудь тысячу строк, а внизу прибавят: „…а то вот еще есть писатель Чехов: нытик…“ А какой я нытик? Какой я „хмурый человек“, какая я „холодная кровь“, как называют меня критики? Какой я „пессимист“? Ведь из моих вещей самый любимый мой рассказ – „Студент“»[16].
Рассказ этот действительно замечателен. Он похож на стихотворение в прозе, где в предельно сжатом, концентрированном виде повторяются ключевые мотивы чеховского творчества, его заветные идеи.
Встречаются на продуваемом ветром поле, в жуткий холод, у костра, накануне Пасхи, в Страстную пятницу, молодой человек и старуха, будущий священник и простые крестьянки, мужички. Точно так же они могли сидеть у костра на неприветливой земле и сто, и тысячу лет назад, «и при Рюрике, и при Иоанне Грозном, и при Петре». И вдруг Иван начинает рассказывать не о богочеловеке Иисусе, а о простом и грешном (апостолом он станет потом) Петре, «замученном тоской и тревогой», слабом и робком, который жалеет Христа и все же в страхе отрекается от него, и осознает свое предательство, и горько рыдает, бессильный что-либо изменить. И, тронутые этой старой и, конечно же, знакомой им историей, плачут женщины. И это вызывает радость в душе студента, ожидание «неведомого, таинственного счастья», ощущение высокого смысла жизни, ее «правды и красоты». В его сознании появляется замечательный образ связи времен, невидимой цепи, которая идет от человека к человеку: «И радость вдруг заволновалась в его душе, и он даже остановился на минуту, чтобы перевести дух. Прошлое, думал он, связано с настоящим непрерывною цепью событий, вытекавших одно из другого. И ему казалось, что он только что видел оба конца этой цепи: дотронулся до одного конца, как дрогнул другой».
Вроде бы ничего не изменилось вокруг, но для Великопольского мир мгновенно становится другим. Чеховское воскресение – это короткое замыкание в цепи времен, вспышка правды и красоты в душе обыкновенного грешного человека, прежде чем она опять погрузится в будничную маету. Пусть это только мгновение, но все-таки оно было, и светом своим, воспоминанием о нем будет окрашивать долгие, трудные, мучительные годы. Каждое мгновение бытия должно быть наполнено смыслом, ибо каждое мгновение может оказаться последним.
О чем написан «Студент»? О молодости и старости. О предательстве и раскаянии. О смысле жизни и поисках его. О судьбе христианства. О связи прошлого и настоящего. Об истории. О России. Об общении душ.
Рассказ «Студент» можно считать эпиграфом, эпилогом и квинтэссенцией чеховского «романа» «Рассказы из жизни моих друзей».
И. Н. СухихРассказы и повести{1}
Психопаты{2}
(Сценка)
Титулярный советник{3} Семен Алексеич Нянин, служивший когда-то в одном из провинциальных коммерческих судов{4}, и сын его Гриша, отставной поручик – личность бесцветная, живущая на хлебах у папаши и мамаши, сидят в одной из своих маленьких комнаток и обедают. Гриша, по обыкновению, пьет рюмку за рюмкой и без умолку говорит; папаша, бледный, вечно встревоженный и удивленный, робко заглядывает в его лицо и замирает от какого-то неопределенного чувства, похожего на страх.
– Болгария и Румелия{5} – это одни только цветки, – говорит Гриша, с ожесточением ковыряя вилкой у себя в зубах. – Это что, пустяки, чепуха! А вот ты прочти, что в Греции да в Сербии делается, да какой в Англии разговор идет! Греция и Сербия поднимутся, Турция тоже… Англия вступится за Турцию.
– И Франция не утерпит… – как бы нерешительно замечает Нянин.
– Господи, опять о политике начали! – кашляет в соседней комнате жилец Федор Федорыч. – Хоть бы больного пожалели!
– Да, и Франция не утерпит, – соглашается с отцом Гриша, словно не замечая кашля Федора Федорыча. – Она, брат, еще не забыла пять миллиардов!{6} Она, брат… эти, брат, французы себе на уме! Того только и ждут, чтоб Бисмарку фернапиксу задать да в табакерку его чемерицы{7} насыпать! А ежели француз поднимется, то немец не станет ждать – коммен зи гер[17], Иван Андреич, шпрехен зи дейч!..[18]{8} Хо-хо-хо! За немцами Австрия, потом Венгрия, а там, гляди, и Испания насчет Каролинских островов…{9} Китай с Тонкином, афганцы… и пошло, и пошло, и пошло! Такое, брат, будет, что и не снилось тебе! Вот попомни мое слово! Только руками разведешь…