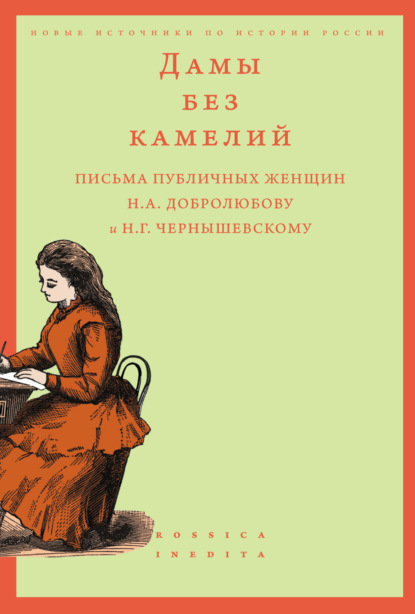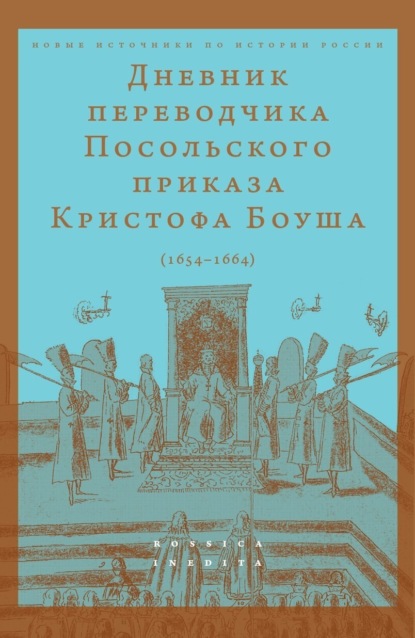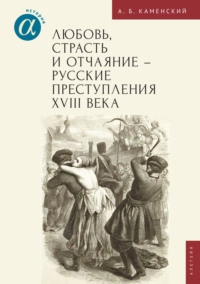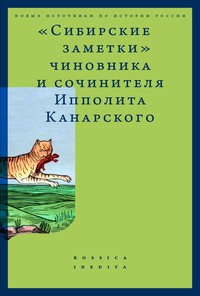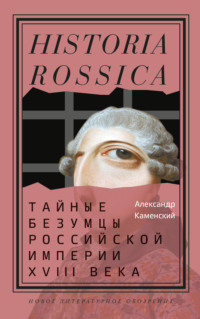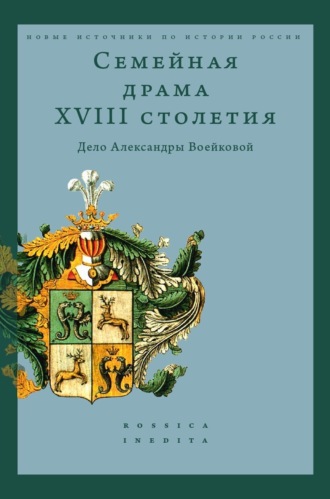
Полная версия
Семейная драма XVIII столетия. Дело Александры Воейковой
После смерти мужа как вдова Александра Игнатьевна должна была по закону получить седьмую часть имения покойного, которая переходила ей в собственность. Мешало ли сколько-нибудь этому ее положение фактически ссыльной? По-видимому, нет, ведь формально она не была осуждена за какое-либо преступление, не была лишена прав дворянства, но, по сути, подверглась царской опале, выразившейся лишь в ограничении права передвижения. Никакие другие ее права, в том числе супружеские, ограничены не были.
Седьмая часть наследства, конечно, не сделала Воейкову богатой вдовой, но, скорее всего, избавила от страха вовсе лишиться средств к существованию. Впрочем, если верить публикуемым документам, несмотря на все ее сетования, совсем уж нищей она не была, владела домом в Москве и подмосковной «деревнишкой». Так или иначе, но это был не единственный поворот, случившийся в ее судьбе в эти годы. Вдовой она пробыла, видимо, недолго и снова вышла замуж.
Новым мужем Александры Игнатьевны стал Александр Сергеевич Сенявин – человек, о котором известно немного, но все, что известно, заслуживает внимания. Во-первых, он был сыном генерал-поручика Сергея Наумовича, внуком петровского вице-адмирала Наума Акимовича и племянником адмирала Алексея Наумовича Сенявиных. Его мать Наталья Александровна, урожденная Нарышкина, приходилась троюродной сестрой императрице Елизавете Петровне и ее старшей сестре Анне. Сам Александр Сергеевич был, таким образом, кузеном императора Петра III, и, значит, Александра Воейкова фактически породнилась с царской семьей. Причем родство это было двойным, поскольку двоюродная сестра ее второго мужа, дочь адмирала Сенявина Мария, была замужем за сыном обер-шталмейстера двора Льва Александровича Нарышкина. Во-вторых, минимальные сведения об А. С. Сенявине удалось найти лишь на двух генеалогических порталах, на одном из которых он обозначен просто как «офицер»[11], а на другом как «генерал-майор»[12]. Однако в списках генералов российской императорской армии его имени нет и, скорее всего, до генеральского звания он все же не дослужился. В-третьих, известна дата рождения А. С. Сенявина – 1753 г. Как упомянуто выше, первый муж Воейковой родился то ли в 1747, то ли в 1748 г., соответственно, во время их венчания ему было 21–22 года. Дата рождения самой Александры Игнатьевны неизвестна, но вряд ли она была старше Федора, скорее младше. В письме С. И. Шешковскому, написанном в 1789 г., она упоминает, что ей исполнилось сорок лет, значит, она родилась не позже 1749 г. Таким образом, ее второй муж если и был моложе ее, то незначительно. К концу XVIII столетия им обоим было под пятьдесят. Конечно, нельзя исключать неожиданно вспыхнувшего взаимного чувства, но вероятнее, это был брак по расчету. Впрочем, скорее по расчету нематериального свойства. Овдовевшая Воейкова, естественно, нуждалась в опоре. У Сенявина же это был первый брак. Мы не знаем, почему он так долго оставался холостяком, но ко времени, когда он встретил Александру Игнатьевну, он, по-видимому, вышел в отставку и не хотел провести остаток жизни в одиночестве. О том, насколько удачным оказался этот супружеский союз и сколько он продлился, к сожалению, неизвестно. Уже цитировавшийся генеалогический портал лишь сообщает, что Сенявин умер не ранее 1800 г.
Ну, а как сложились судьбы детей Воейковых? Старшая дочь Наталья еще в 1788 г. была выдана отцом замуж за Михаила Алексеевича Дурново, который в 1792 г. имел чин капитана. В феврале 1789 г. у этой пары родился первенец – сын Алексей, впоследствии женившийся на старшей сестре А. С. Грибоедова Марии. Два года спустя у четы Дурново родился второй сын, Михаил. Вторая дочь Воейковых Анна вышла замуж за Якова Ивановича Полонского. Детей в этом браке, видимо, не было; в 1816 г. Анна умерла, и позднее Полонский женился вторично. Жену родившегося в 1780 г. Павла Воейкова звали Авдотья Николаевна, ее девичья фамилия была предположительно Субочева, и в этом браке родилось несколько детей.
Младший сын Воейковых Иван был женат на Варваре Дмитриевне Мертваго, которая, если верить генеалогическим данным, была моложе его на 30 лет и родила двоих сыновей. Она умерла в 1848 г. в возрасте 36 лет, лишь на год пережив мужа. Старший сын, член-корреспондент Императорской Академии наук Александр Иванович Воейков (1842–1916), считается основоположником российской климатологии. Еще более знаменит младший – Дмитрий Иванович (1843–1896). Предводитель дворянства Сызранского уезда, председатель самарского Дворянского банка и какое-то время управляющий делами Министерства внутренних дел, он более всего прославился как основатель российской асфальтовой промышленности. Асфальтом, произведенным на его заводе в с. Батраки Сызранского уезда[13], покрывали мостовые Москвы и Петербурга, и в 1878 г. асфальт с клеймом «братья Воейковы» получил медаль на всемирной выставке в Париже. Небезынтересно также, что в 1872 г. Дмитрий Воейков организовал уездный съезд учителей, а его основным помощником в этом мероприятии был не кто иной, как И. Н. Ульянов. Вряд ли кто-то мог предположить, как скажется на судьбах потомков Воейковых роль, которую сыграл в истории России на тот момент двухлетний сын Ульянова Владимир, но сведения об этом можно почерпнуть из публикаций писем значительно пережившей Дмитрия Ивановича Воейкова его жены Ольги Александровны Толстой-Воейковой, изданных их правнучкой, известным французским литератором, профессором Сорбонны и автором книг о России Вероникой Жобер[14]. Другой источник – воспоминания их внучки, известной писательницы Н. И. Ильиной[15].
О самой младшей дочери Федора и Александры Воейковых Елизавете известно, что она была замужем за каширским помещиком Никанором Ивановичем Челищевым. Сведения об их потомстве отсутствуют. Зато гораздо больше мы знаем о старшем сыне главных героев этой публикации – Александре Федоровиче, причем не только о его литературной деятельности, но и человеческих качествах. Получив образование в пансионе Московского университета, о котором его мать в своем прошении Екатерине II отзывалась как о «преподлом» и где, по ее словам, его постоянно мучили и секли, он затем несколько лет был на военной службе – сперва в лейб-гвардии Конном полку, где когда-то служил его отец, а затем в Екатеринославском кирасирском. В 1806–1807 гг. он командовал рязанской милицией, а в 1812 г. вступил в ополчение и состоял при рязанском гражданском губернаторе, будучи, по-видимому, рязанским помещиком и, как старший сын, унаследовав там часть отцовского имения. В 1814–1820 гг. преподавал в Дерптском университете, но, по утверждению его биографа А. М. Пескова, «профессорская карьера Воейкова не сложилась: против людей, которых он не любил, Воейков действовал, не раздумывая над средствами их дискредитации (используя в т. ч. и доносы), что вызвало резкую неприязнь к нему со стороны университетских коллег»[16]. Далеко не однозначной была и его репутация в литературных кругах. С одной стороны, Александр Федорович умело поддерживал и использовал себе на пользу отношения с наиболее известными поэтами и литераторами своего времени, с другой – отличался «крайней неразборчивостью в средствах ведения полемики, доходившей до прямых доносов»; его отличала «любовь к мистификациям, склонность к лукавому юродству и хитрости»[17]. В 1814 г. Воейков женился на Александре Андреевне Протасовой, воспетой В. А. Жуковским в балладе «Светлана», прожил с ней 14 лет до ее смерти и имел от нее трех дочерей и сына, но склонность к спиртному, а также «неуравновешенный характер и привычка не сдерживать себя перед слабейшим коверкали жизнь домашним»[18]. Через 10 лет после смерти жены Александр Федорович женился вторично – на мещанке Александре Васильевне Деулиной[19], с которой у него была многолетняя связь и внебрачные дети. Остается только гадать, унаследовал ли А. Ф. Воейков неуравновешенность и другие не слишком приятные черты характера от отца, явились ли они следствием не самого счастливого детства или были приобретенными[20].
В истории потомства Федора и Александры Воейковых есть одна загадка: некоторые генеалоги, начиная с их родственника Ювеналия Воейкова, приписывают им еще одну дочь – Екатерину, в замужестве Елагину, якобы родившуюся в 1788 г. Однако, скорее всего, это ошибка, ведь Александра Игнатьевна в своих прошениях настойчиво говорит о шести детях, да и вряд ли еще один ребенок мог появиться в самый разгар семейного конфликта, когда супруги уже три года жили отдельно. Разве что это была дочь их разлучницы Екатерины Несвицкой.
За кулисами
Независимо от того, в какой степени соответствовали действительности содержащиеся в прошениях Воейковой сведения, сами они уникальны не только своим объемом, но и языком, лексическим богатством, стилистическими и риторическими приемами. Используемая при этом аргументация – просительница взывает к дворянской чести, благопристойности, долгу по отношению к детям, святости брака, родительским чувствам – примечательна с точки зрения системы ценностей российского дворянства в конце столетия. Не менее интересны и подкрепленные многочисленными ссылками на законодательные акты апелляции к законности, правосудию, демонстрирующие правосознание автора прошений. Наконец, как уже упоминалось, прошения Воейковой приоткрывают завесу над механизмами принятия решений, патрон-клиентскими связями и – более широко – над взаимоотношениями в дворянской среде екатерининской России.
При первом знакомстве с прошениями Воейковой возникает вопрос, писала ли она их сама, продиктовала или заплатила кому-то, кто облек в такую форму рассказ о ее злоключениях. Однако в конце второго прошения Воейкова утверждает, что написала прошения сама, поскольку никто не хотел браться за эту работу, да и заплатить ей было нечем. Действительно, если бы прошения составлял опытный чиновник, он конечно же сделал бы их более краткими и стройными, не допустив многочисленных повторов и отступлений. Как упоминает сама Воейкова, кабинет-секретарь императрицы А. В. Храповицкий предлагал ей свести свое обращение на высочайшее имя лишь к жалобе на последнее решение Сената, что вполне соответствовало установленному порядку. Однако просительница, хоть и сократила первоначальный текст вдвое, все же сочла необходимым вновь рассказать всю историю с самого начала. Скорее всего, кто-то Воейковой все же помогал, хотя бы в подборе многочисленных законодательных актов, на которые она ссылается и даже цитирует. Возможно, это был один из ее братьев, имевших опыт работы в судебных учреждениях. Но главным автором была все же она сама. Ее авторство подтверждается и акцентом на судьбе не просто одного из обиженных подданных, но именно женщины, матери, что, вероятно, по ее мнению, должно было подействовать на императрицу. Впрочем, образ «слабого пола» присутствует и в ее письме С. И. Шешковскому, где она пишет, что не всякий мужчина вынес бы страдания, выпавшие на ее долю.
Объем прошений Воейковой, как уже сказано, обусловлен прежде всего бесконечными и на первый взгляд совершенно излишними повторами одних и тех же аргументов, рассуждений, патетических восклицаний и эпизодов. Может показаться, что все это – излитый на бумагу своего рода путаный поток сознания. Однако при внимательном чтении в прошениях обнаруживается определенная логика. Рисуемая Воейковой картина постепенно, медленно пополняется все новыми деталями. Так, к примеру, упомянув в самом начале первого прошения, что отец ее мужа жаловался на сына в Военную коллегию, она снова и снова использует этот факт в качестве доказательства своей правоты и вдруг добавляет, что и у нее самой есть письмо от свекра с подобными обвинениями. Назвав в первых строчках своего прошения имя главной виновницы всех своих несчастий – любовницы мужа княгини Несвицкой, чья алчность якобы довела его до разорения, – и вновь и вновь повторяя это ненавистное имя едва ли не в каждом предложении, она лишь через несколько страниц упоминает о бедственном материальном положении княгини до знакомства с Воейковым, ссылаясь при этом на информацию Государственного заемного банка. Неожиданно в тексте прошения появляется имя бывшего генерал-прокурора А. И. Глебова, причем просительница проявляет осведомленность не только о его опале, но и о родственных связях. Далеко не на первой странице Воейкова сообщает, что консультировалась по своему делу в Святейшем Синоде.
Интересны и используемые ею лексические приемы. Так, упомянув, что муж обвинил ее в том, что она затеяла с ним тяжбу вопреки «гласу природы», она затем берет это выражение на вооружение и несколько раз использует его в качестве аргумента в свою пользу, подчеркивая тем самым ничтожность доводов мужа. О московском главнокомандующем П. Д. Еропкине, из-за родства с Федором Воейковым отказавшемся расследовать ее дело, она, несмотря на это, неизменно отзывается уважительно и всякий раз называет его по имени-отчеству, а рязанского генерал-губернатора И. В. Гудовича, которого откровенно считает своим врагом, по имени не называет ни разу[21]. Вместе с тем в пространных текстах прошений почти отсутствует лексика религиозного характера и какие-либо цитаты или отсылки к Священному Писанию. Воейкова апеллирует исключительно к гражданским законам. Напротив, в письмах к Вяземскому и Шешковскому, написанных уже после вынесения ей приговора, мы находим многочисленные призывы к христианскому милосердию и признание собственных прегрешений.
Не менее интересны и документы дела 2749, в совокупности позволяющие, как уже сказано, реконструировать механизм принятия решений и формы коммуникации по подобным делам в России последней четверти XVIII столетия. Окружавшие Воейкову люди были связаны между собой множеством формальных и неформальных связей – родственных, служебных и просто приятельских, которые образовывали плотную сеть, соединявшую воедино дворянскую элиту России второй половины XVIII в. Постоянный обмен разного рода услугами, по сути, являлся одним из средств поддержания стабильности данного социального слоя. Отвергнутая мужем Воейкова, с одной стороны, оказывается как бы выпавшей из этой сети, и тогда в действие вступают сугубо денежные отношения. Причем публикуемое письмо родственника Несвицкой В. П. Чагина И. А. Глебову показывает, что в окружении А. А. Безбородко действительно существовала налаженная система извлечения материальной выгоды от близости к влиятельному вельможе. И скорее всего Безбородко был в этом отношении далеко не одинок. С другой стороны, есть основания полагать, что в деле Воейковых были и иные, не названные участники, которые, в частности, информировали Александру Игнатьевну обо всех его поворотах. Так, просительница проявляет удивительную осведомленность и о содержании прошения, которое ее супруг подал в Сенат, и о содержании направленного туда же письма Гудовича, и о финансовых делах мужа, с которым уже несколько лет живет в разлуке, и о судьбе дворового, отданного им в качестве платы за оказание протекции. И даже уже находясь в Рязани, она узнает о том, как именно выполнил данное ему поручение П. Д. Еропкин.
Небезынтересно также сопоставить аргументацию прошений Воейковой и решившего ее судьбу приказа А. А. Вяземского. В первом случае перед нами предстает лишенная дома женщина, гонимая, отвергнутая, страдающая от обид, клеветы, притеснений, разлуки с детьми; она апеллирует к женским ценностям, но при этом спасение ищет в правосудии, причем в правосудии гражданском: доказывает свою правоту ссылками на законы и требует формального суда. Вяземский же в своем приказе утверждает, что законы она толкует неверно, неправильно их понимает. Оказывается, Воейкова ошибочно считала, что гражданские законы одинаково распространяются на мужчин и женщин. В действительности же как жена она была не вправе требовать установления опеки над имениями мужа, чтобы законным порядком предотвратить их разбазаривание и тем самым защитить себя и своих детей от грозящей им, по ее уверениям, нищеты. На измену мужа она может жаловаться лишь духовным властям и в лучшем случае добиться порицания и увещевания супруга. Не подлежит уголовному преследованию и то, что в наше время называется домашним насилием. Особенно примечателен аргумент Вяземского, что Александра Игнатьевна якобы пыталась присвоить себе по отношению к мужу неподобающую роль матери, а не жены, то есть фактически отступила от той гендерной роли, которая уготована ей в обществе. В письме же к Еропкину генерал-прокурор прямо обвиняет Воейкову в незнании «правил добронравия и скромности, пристойной полу ее». Иначе говоря, постоянно подчеркивая свою роль матери и жены, просительница одновременно претендует на равные права с мужчинами, и формально она права, ведь законодательные акты, на которые она ссылается, не делают различения по полу. Но такое толкование закона входит в противоречие с устройством общества, с традиционными представлениями о роли в нем женщины и с тем, что общество мужчин от нее ожидает. Показательно, что в прошениях Воейковой мы практически не встречаем женских имен. Ее история – это история борьбы женщины с миром мужчин. В определенном смысле можно сказать, что своим поведением, своей позицией, скорее всего сама того не сознавая, она бросила вызов сложившемуся порядку и именно за это была наказана. Собственно, ничего неожиданного для историка, занимающегося русским XVIII столетием, в этом нет, но публикуемые документы, как представляется, служат яркой иллюстрацией к гендерному устройству общества этого времени.
Многостраничные прошения, ссылки на законы, претензия на равные права с мужчинами – все это само по себе, несомненно, раздражало высокопоставленных сановников, с которыми сталкивалась Воейкова в своей борьбе за, как она считала, справедливость. Но не менее, вероятно, раздражали их ее настойчивость, неугомонность, готовность идти до конца, создавшие ей репутацию «беспокойной женщины» и также, по-видимому, не соответствовавшие их представлениям о том, как должна вести себя женщина благопристойная. Описывая свои страдания, угрожая самоубийством, она одновременно агрессивно нападает на своих противников, действительно не стесняясь в выражениях и не особенно выбирая эпитеты. Казалось бы, перед нами отстаивающая свои права и человеческое достоинство эмансипированная женщина, своей активной жизненной позицией опередившая время. Но в действительности ее система ценностей может быть понята только в контексте эпохи. Своего мужа она характеризует как абсолютно конченого развратного человека, разбитого параличом горького пьяницу, но разводиться с ним она ни в коем случае не желает и несколько раз повторяет, что не хочет быть «разводной» женой, то есть расценивает это как нечто постыдное. Столь же неприличным она считает и положение содержанки, живущей на выделяемые ей мужем деньги. Несмотря ни на что она хочет воссоединиться с ним, а в Тайной экспедиции (возможно, от растерянности и испуга) говорит, что даже согласна, чтобы вместе с ними жила его любовница. О связях мужа с дворовыми девками, в отличие от всех других его прегрешений, Воейкова упоминает лишь единожды и как бы мельком, очевидно относясь к этому как к чему-то хоть и неприятному, но неизбежному. А ведь законодательство того времени за подобные действия грозило помещикам карами, и вроде можно было бы за это уцепиться и использовать для характеристики мужа как уголовного преступника. Но Александра Игнатьевна, видимо, знала, что данное явление было весьма заурядным и на практике власти наказывали за это крайне редко.
Обращает на себя внимание и то, как Воейкова интерпретирует понятие «любовь». С одной стороны, она постоянно повторяет, что, несмотря ни на что, продолжает любить мужа, который, в свою очередь, «ослеплен» любовью к Несвицкой. Последняя же, по ее мнению, напротив, Воейкова не любит, а движима лишь корыстью. Во втором прошении, рассуждая о том, что муж ее разлюбил, Александра Игнатьевна замечает, что «любви нихто ни от кого сильно себе не присвоивает», то есть заставить любить нельзя, но это, по ее мнению, не является оправданием для нарушения святости супружеского и родительского долга. Подобная интерпретация любви – еще одно свидетельство трансформации, которую претерпело это понятие к концу XVIII в.[22]
Как уже сказано, Воейкова была сослана в Рязань не как приговоренная судом преступница, но как человек, нарушивший правила приличия и благопристойности, назойливая просительница, осмелившаяся утрудить монаршую особу своими безосновательными обращениями. И если сама она, доказывая свою правоту, ссылалась на многочисленные законодательные акты, то в приговоре, вынесенном ей генерал-прокурором, ни одной ссылки на какой-либо закон, на основании которого он вынес свое решение, нет. Не случайно и документ, подписанный Вяземским, назывался «приказ», а не «приговор». Это была царская опала, подвергнуться которой мог только человек из высшего слоя русского общества того времени, своего рода отеческое (в данном случае материнское) наказание. Само явление опалы известно по меньшей мере с XVI в., но его формы, характерные для XVIII столетия, заслуживают специального изучения. Как носившая внесудебный характер опала сочеталась с настойчивым утверждением Екатериной II законности и правосудия? Как ощущал себя русский дворянин XVIII в., навлекший на себя царский гнев?[23] Каков был статус опального? Примечательно, к примеру, что в инструкции, данной курьеру, который должен был доставить Воейкову в Рязань, Вяземский проявил заботу о ее здоровье и комфортных условиях путешествия и озаботился и тем, чтобы она сразу получила средства к существованию. Находившийся в опале и фигурирующий в публикуемых документах А. И. Глебов, на чьи имения был наложен секвестр и которому было запрещено приезжать ко двору, подписал аттестат Ф. А. Воейкова, и Сенат его принял; а сосланному по высочайшему повелению в 1775 г. в монастырь П. Ф. Апраксину за казенный счет покупали новые рубашки и следили за его здоровьем[24]. Иначе говоря, в отличие от осужденного преступника, человек, оказавшийся в опале, не лишается гражданских прав и не исключается из общества, он лишь ограничен в определенных действиях. Он несет наказание, обусловленное, с одной стороны, его привилегированным положением, а с другой – зависимостью от монаршей воли, едва ли не большей, чем у рядового подданного, стоящего много ниже на ступенях социальной лестницы.
Внимательно читая публикуемые документы, можно обнаружить в обращениях Воейковой к властям предержащим некоторые противоречия и определенное лукавство. Так, в письме, основная цель которого – добиться разрешения жить в Москве, к Шешковскому Воейкова пишет, что могла бы жить там со старшей дочерью и зятем, а в письме к Вяземскому характеризует этого же зятя как распутного человека и само замужество дочери описывает как несчастье. Оба письма различаются и по тону, и по тому, как она обращается к своим адресатам, и это показывает, что вышедшие из-под пера Александры Воейковой тексты при всей их запутанности и многословности конечно же не были простодушным потоком сознания, но были вполне продуманы и расчетливы.
В целом публикуемые документы дела 2749 являются ценнейшим источником для продолжения изучения проблем, впервые обозначенных более двадцати лет назад в книге М. Маррезе «Бабье царство», – о положении русской женщины второй половины XVIII в., ее способности отстаивать свои права, агентности, использовании сетей патронажа и др. Вчитываясь в эти документы, мы как бы погружаемся в атмосферу жизни русского дворянства последней четверти XVIII в. с ее эмоциями, взаимоотношениями и миросознанием людей этого времени.
Дело Александры Воейковой
№ 1. Прошение Александры Игнатьевны Воейковой императрице Екатерине II
Всеавгустейшая монархиня,
всемилостивейшая государыня.
Приемлю дерзость изъявить пред ВАШИМ ВЕЛИЧЕСТВОМ о тех моих злоключениях, коим первою есть виною несчастное мое супружество за капитаном Федором Воейковым, с которым, к крайнему моему прискорбию, имею шестерых малолетных детей – 3-х мужеска, 3-х женска полов.
В течении онаго супружества близ 20 лет капли счастия своего не видала и не только бренный мой состав, но и саму душу мою сокрушающих и состраждущих различными обстоятельствами деяниев его (оных, хотя бы не желала изъявить пред вами, но как необходимо нужно для изъяснения сего моего дела и моей прозьбы), то должна с великою прискорбностию моей о том теперь сказать, что он, муж мой, с самых молодых лет своих обращался в различных гласных и ясных пороках и в наиважнейших преступлениях, оказавшейся как то: 1-е. Будучи еще лейб-гвардии в Конном полку вице-вахмистром, в 1767-м году во обще с отставным от армии подпорутчиком Афросимовым сочинил от имяни матери своей на имя купца Деклера в 15 000 р. фальшивой вексель; вместо ея представил посторонную подлую женщину, а к рукоприкладству вместо отца ея духовнаго – посторонняго попа, а сам порукою под тем векселем подписался, как по точной своей матери. За что по семилетнем содержании под стражею военным того полку судом приговорен был по силе законов к разным штрафам и к смертной казни, но по безприкладному ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ко всем верноподданным милосердии, ради слез моих, пред освященнейшим престолом ВАШИМ пролитых, из ВЫСОКОМАТЕРНЯГО малолетным и несчастным нашим детям соболезнования ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕ ото всех тягчайших наказаний и смертной казни избавлен. А по ВЫСОЧАЙШЕЙ конфирмации на поднесенном от того полку доклада, последовавшей июля в 30-й день 1775-го года, когда он был 28-ми лет, повелели отослать его в Военную коллегию для определения в салдаты, а о товарище его, Афросимове, того ж года месяца и числа воспоследовала ВЫСОЧАЙШАЯ конфирмация на поднесенном об нем докладе от Сената 2-го департамента – по лишении чинов сослать вечно в Сибирь[25];