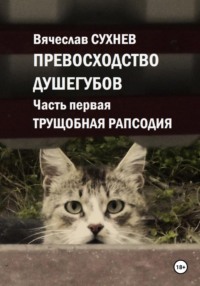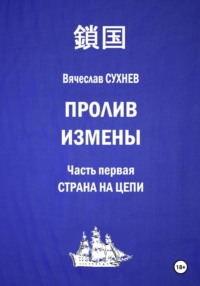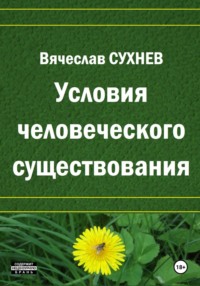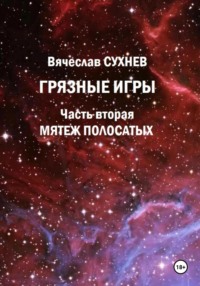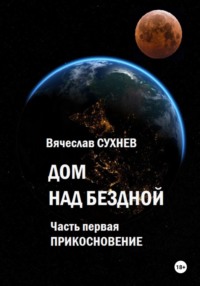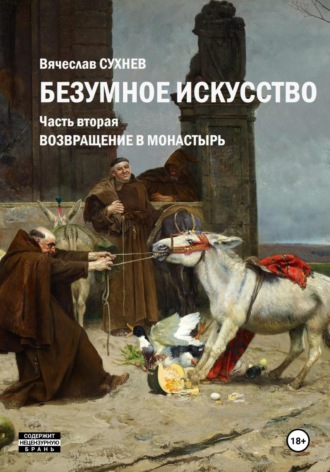
Полная версия
Безумное искусство. Часть вторая. Возвращение в монастырь
– Вот и спросим!
– О чём? – Евдокия стояла в дверях с чашкой.
– Тут Паша интересуется узнать, – сказал комсорг, – уйти ему или остаться.
– Если Паше интересно, пусть остаётся, – сказала Евдокия довольно равнодушно.
Я обиделся, что обо мне говорили как об отсутствующем, и хлопнул дверью. Ах, как саднило сердце, когда я бежал проходными дворами к себе на Стромынку! Как саднило сердце… Но недолго. Пубертационный период не терпит пустоты. Оказалось, что без очков девочка Катя не такая уж страшная. И не такая уж толстая без оборок. И стихи она слушала, в отличие от Евдокии, с выражением восторженного ужаса. И губы у неё оказались большими и тёплыми.
Потом мы и вовсе уехали со Стромынки на окраину Москвы, в Орехово-Борисово. Здесь родители купили двухкомнатную кооперативную квартиру. И у меня появилась отдельная комната. Доучивался я в новой школе и за год ни с кем не успел не то, что подружиться, даже хотя бы поближе сойтись.
Вероятно, этому поспособствовала одна некрасивая история в самом начале учебного года. На большой перемене я вышел в школьный двор, довольно просторный и зелёный. Меня как-то неожиданно окружила группа одноклассников, которых я едва успел запомнить в лицо. Один из них, упитанный паренёк с низким лобиком и короткой чёлкой, наступил мне на носок начищенного штиблета своим говнодавом.
– Не люблю пижонов, – сказал он без выражения. – В нашем классе их не любят.
Я вспомнил двор на Стромынке, выдернул ногу, отступил на шаг и провёл «двоечку». Тренер Савкин был бы доволен. Левой без замаха – в подреберье, чуть выше печени, а прямой правой – в подбородок. После такого удара в кино люди падают на спину и картинно задирают ноги. Не верьте, это режиссёрский фуфель. После грамотно проведённого прямого в подбородок человек хлопается на колени и некрасиво заваливается на бок… Паренёк впал в тяжёлый нокаут, и его пришлось приводить в чувство нашатырём. Меня пригласили к директору школы, который поинтересовался, сможет ли он в ближайшее время побеседовать с моими родителями. Пришлось директора огорчить: родители только через месяц должны были вернуться из экспедиции.
– Но кто-то же за вами присматривает! – сказал директор, пучеглазый как филин.
– Я сам за собой давно присматриваю, – сказал я, понимая, что терять нечего. – И туфли чищу сам. Поэтому и не люблю, когда на них наступают.
– Ну… вы же могли объяснить… словами!
– Поздно, – сказал я. – Словами тут уже не поможешь.
– Ещё такой инцидент… Еще раз! Придётся ставить вопрос… о пребывании.
Потом я узнал, что упитанный паренёк был сыном какого-то районного начальника. Инцидентов больше не было. Удивительно, но в жизни мне ни разу не пригодилось умение бить людей по лицу. Одноклассники старались не замечать меня, а я платил им той же монетой. Иногда я катался на Преображенку, к девочке Кате, иногда она приезжала ко мне в гости. И все, как говорится, были счастливы.
Не хватило мне запала. И не только мне – целой стране. Когда Леонид Ильич въехал в Кремль, я только пошёл в школу, а когда его вывозили из Кремля, я уже закончил университет, был взрослым человеком. Сейчас по-разному вспоминают восемнадцать брежневских лет: застой, запой, стабильность, настоящий социализм. Я же думаю об этом времени, как об эпохе без запала.
Дылда-комсорг окончил МГИМО и женился на Евдокии, которая училась в индустриальном техникуме, стала специалистом по женской одежде, но ни одного дня в ателье или на фабрике не работала. Молодые поехали в Бирму, где бывший комсорг за несколько лет потихоньку спился. Его хотели выгнать из славной когорты советских дипломатов, но Евдокия, пооббивав высокие начальственные пороги, выпросила для мужа прощение и отправилась за ним в Африку. Едва они приехали в крохотную экваториальную страну, как там началась гражданская война. Бывший комсорг нелепо погиб в случайной перестрелке на улице. Евдокия рассказала мне это, когда мы неожиданно встретились в Москве у общих знакомых. Она сильно расплылась, много курила, потягивая необыкновенно липкий абрикосовый ликёр, и строила глазки всем без разбору…
В выпускном классе я твёрдо решил стать искусствоведом, а не графиком.
Именно в последний школьный год я обошёл все московские художественные музеи, побывал на многих выставках и понял: большого художника из меня не получится. Для этого нужно работать двадцать пять часов в сутки. Привычный к труду, я не был готов, тем не менее, к каторжному подвижничеству. То есть молодым, если не сказать юным, я понял: нельзя удовольствие превращать в работу, лань вдохновения не потянет телегу с кирпичами – тут нужна ломовая лошадь. Становиться лошадью тоже не хотелось.
Конечно же, я не представлял себе взрослой жизни тогда, в выпускном классе. И вовсе не размышления над природой интеллектуального труда повлияли на мой выбор – я пока не умел об этом думать. Помогла одна случайность. В журнале «Огонёк» часто печатался с очерками о художниках Игорь Долгоштанов, сам художник и ученик Пластова. Я с восторгом читал его рассказы о Леонардо, Андрее Рублёве, Гойе и Репине. Мне тоже захотелось проникать в сокровенные замыслы творца, и движение мысли в картине стало интересовать больше, чем движение кисти. Мне захотелось рассказать, почему Суриков написал такой низкий потолок в картине «Меншиков в Березове», отчего у Кустодиева в конфетно-пасторальной «Прогулке верхом» зловещее небо и зачем Саврасов в «Домике в провинции» написал курицу с цыплятами прямо под окном, где висит клетка с канарейкой.
Иногда думаю, что я потерял… Предположим, решил бы в извинительной юношеской гордыне, что у меня талант. Тем более, в этом были убеждены все окружающие: родители, бабушка с дедушкой, тетя Валя Хоровна, одноклассники и даже наша дворовая шпана. Предположим, я поступил бы в художественное училище. Конечно, поступил бы – у меня и сейчас нет сомнений. Чем бы потом занимался я, дипломированный художник-график со средними способностями? Почти вижу – чем. Мизерные заказы издательств, карикатуры в газеты, этикетки для плавленых сырков. Пик признания, арарат творчества – оформление школьного учебника по истории СССР. Бежит матрос, бежит солдат, стреляет на ходу… А в редкие часы, не занятые подёнщиной, пьянкой и ссорами с очередными бабами, – урывочная, судорожная работа над великой серией: «Московские мосты в разное время года».
Эта серия должна доказать… Может быть, больше доказать самому художнику, чем окружающим. А годы летят быстро, а серия движется медленно. Идеи закончились и остались только мосты, никому не интересные. В первую очередь – художнику. Надо снять шоры, надо трезво признать, что идея серии с мостами была изначально непродуктивной, что жизнь потрачена на погоню за миражами. Значит, всё необходимо начинать с чистого листа. В тридцать лет такие мысли непредставимы, в пятьдесят выедают душу.
Понимаю, не все художники так живут. Допускаю, что так живут единицы. Но мне не хотелось бы даже теоретически иметь шанс на подобный вариант существования.
Повторяю, ни о чём подобном я тогда, в выпускном классе, не размышлял. Просто объявил родителям, что собираюсь поступать на исторический факультет университета, потому что там есть отделение искусствоведения. А рисовать для собственного удовольствия никому не запрещено. Мама с отцом были заметно разочарованы моим решением, но долго его не обсуждали – они как раз собирались в очередную экспедицию.
– Может, мне остаться? – спросила мама. – У тебя же выпускные экзамены, а потом – вступительные…
– Не дури, Нина, – сказала бабушка, которая тогда гостила у нас. – Он парень самостоятельный. Чай, не больно-то мы за ним надзирали, пока он школьные науки проходил. Авось и с институтом сам сладит.
– Конечно, сладит, – засмеялся папа и потрепал меня по плечу. – Он уже выше меня!
– Выше тебя вырасти – невелик труд, – сказала бабушка.
16. ПУКИРЕВ. «НЕРАВНЫЙ БРАК». 1862.
Утром поднимался по складам. Застолье у Платоши даром не прошло. Стар я уже столько пить и жрать… Дополз до ванной и минут двадцать хлестался контрастным душем, пока не осознал себя мыслящей материей. После кофе с несколькими каплями коньяка почти пришёл в норму. Можно было браться за телефон и заказывать билеты на самолёт до Красногорска.
За полчаса всё и решил: билеты заказал, адрес для курьерской доставки продиктовал, деньги приготовил. И даже первую за день сигаретку выкурил – с некоторым отвращением, как бывает всегда после обильных возлияний накануне.
В телевизоре шли обычные новости: убили, украли, взорвали, разбомбили.
Тут Шпонько неожиданно позвонил:
– Боюсь, Павел Иванович, у нас складываются чрезвычайные обстоятельства. Неделю назад Ашот Саркисович Карапетян загремел в Кремлевскую больничку с инсультом. Ситуация тяжёлая: по некоторым сведениям, Ашот Саркисович может и не вернуться в родные стены – врачи не дают положительных прогнозов лечения.
– А вы откуда об этом знаете? Это же врачебная тайна!
– Сегодня в «Ганимед» обратилась безутешная супруга Ашота Саркисовича. Ещё трусов не износивши, в которых шла, рыдаючи, в больницу, она хочет продать некоторые картины и просит мешок денег. Якобы, на лекарства для мужа. Между нами говоря, Ашот Саркисович при желании мог бы прикупить тут самую больничку, в которой он сейчас обретается. Но о супруге… Если не пойдём на сделку, она угрожает обратиться к нашим конкурентам. Это ей насоветовала какая-то грамотная сволочь, акцентирую ваше внимание, грамотная. Эта же сволочь порекомендовала ей нанять вас, дорогой Павел Иванович, в качестве эксперта последней руки.
Только этого мне и не хватало…
– Экспертизу собрания Карапетяна проводить не буду, – сказал я. – Ни последней рукой, ни первой.
– А что, есть… противопоказания?
– Есть, и весьма серьёзные. В медицине они называются обширным фуфелем.
Для справки: на жаргоне блатных и антикваров фуфель – это подделка.
– Не может быть! – удивился Шпонько. – С таким анамнезом – и Карапетян? Вы уверены, Павел Иванович, ничего не перепутали? Может, не про того Карапетяна толкуем?
– Про того… Последний раз я был у него недавно, когда оценивал этюд Коровина. Ну, Ашот Саркисович, душа нараспашку, и похвастался собранием. Понимаете меня, Иван Фёдорович? Я посмотрел эту коллекцию, внимательно посмотрел…
Шпонько долго молчал. Потом вздохнул:
– Как бы нам в тишине, за чайком, обсудить дела наши скорбные? А то я, признаться, уже губы раскатал, уже калькулятором самонадеянно пощёлкал.
Договорились через час встретиться в «Ганимеде». Шпонько обязался вытащить на совещание нашего дорогого руководителя и хозяина Степана Дмитриевича Клюшкина, чтобы решение принимать коллегиально и не гавкать потом друг на друга за великие упущенные возможности.
С тем я и поехал. Погода на сей раз стояла чудесная: мороз и солнце. В затишке основательно пригревало, с крыш капало. По пути к метро подумал: а зима ведь кончается!
Ашот Саркисович Карапетян некогда служил в строительном министерстве. В новые времена прикупил несколько цементных производств. Так что денежки у него водились. Мальчик из горного городишки, укладчик асфальта то ли в Ростове, то ли в Краснодаре, студент строительного института, прораб и начальник участка где-то в Абхазии… И так далее. В конце советских времен Карапетян жил в четырёхкомнатной квартире на Большой Грузинской с кучей родственников – и своих, и первой, умершей, жены. Все стены этой шумной, распахнутой днём и ночью квартиры были увешаны картинами. Само собой – Сарьян, Ханджян, Башигджанян… И конечно же – Ованес Гайвазян, больше известный как Иван Айвазовский. Правда, только одно его полотно держал Ашот Саркисович, но и этого достаточно. Карапетян много лет переписывался с Нерсесовым, профессором-строителем из Тбилиси, крупным собирателем армянской живописи. Насколько я знаю, именно Нерсесов привёз Карапетяну малоизвестную работу Ерванда Кочара, которую потом безуспешно пытался перекупить другой московский армянин из знаменитого рода Серебряковых.
В коллекции Ашота Саркисовича с детьми гор мирно уживались Коровин, Фальк, Кончаловский и другие русские мастера. Коллекция сложилась вполне статусная.
Повдовствовав лет пятнадцать, подняв на ноги дюжину своих и чужих детей, Карапетян в семьдесят с лишком лет неожиданно для всех женился. Можно было бы понять старого богатого дурака, если бы он связался с юной моделью, победительницей конкурса «Мисс Россия» или, на крайний случай, со смазливой кинозвездой. Карапетян был высоким поджарым красавцем с орлиным профилем, хорошо одевался и безумно нравился женщинам. Нет, он женился на пятидесятилетней толстой карге с усами как у товарища Будённого. Не знаю уж, чем она его взяла… Первым делом молодая супруга разогнала всех родственников и приживальщиков и запретила принимать дома лучших друзей Карапетяна, то есть пол-Москвы. Вторым делом наняла бригаду гастарбайтеров, которые провели в квартире ремонт. И четырёхкомнатные хоромы превратились в музей. Теперь по музею имени Карапетяна топала карга с метёлочкой из павлиньих перьев и смахивала с картин невидимую пыль.
Когда я в последний раз был в этом музее, мне показалось, что Ашот Саркисович панически боится молодой жены. Жуир и весельчак, душа компании, оборотистый и нахрапистый делец, который воровал эшелонами цемент и кирпич, теперь как-то ссохся, одряхлел, почти ослеп, а от былого величия остался лишь унылый орлиный клюв. Карапетян шаркал по дому в шлепанцах, в сером бархатном халате с мятой белой рубашкой, заглядывал в глаза жене и следил за малейшим движением её вибрисс:
– Да, Аидочка… Не беспокойся, Аидочка…
Сик транзит глориа мунди. Ржа и топор ест.
Шпонько дожидался меня в переговорной – скромно обставленной небольшой комнате в глубине нашего салона. Тут мы принимали клиентов и обговаривали самые щекотливые дела. Пока поговорили о погоде, радикулите и выпили по чашке знаменитого чая, подъехал Степан Дмитриевич Клюшкин. Бросив на спинку кресла долгополое кожаное пальто, патрон спросил, не здороваясь:
– А без меня не могли обойтись?
– Могли, Степан Дмитриевич, – покладисто сказал Шпонько. – Но последнее слово должно быть за вами. Речь идет о денежках. Сумма-то значительная. Так что явите божецкую милость, снизойдите…
– Какова сумма? – спросил у меня Клюшкин.
Я сказал. Патрон присвистнул:
– Однако… Сколько мы получим комиссионных?
Теперь ответил Шпонько.
Клюшкин опять присвистнул:
– Ничего не понимаю. Почему вы тут рассиживаете, а не пакуете картины?
– Сначала давай определимся с приоритетами, – сказал я. – Что для нас важнее: потеря гипотетических комиссионных, какими бы они ни казались огромными, или потеря авторитета, который тоже не кот начихал?
– Ну, ты спросил, – усмехнулся Клюшкин, потирая обрюзгшие щеки. – Совмещать надо приоритеты, Павел Иванович, дорогой! И авторитет не терять, и комиссионными не брезговать. Неужели тебе надо такие вещи объяснять? Ладно, излагай свою историю…
Я рассказал о недавнем походе в закрома бывшего титана советской строительной индустрии.
Когда мы неторопливо, под кофе с коньяком, разобрались с этюдом Коровина, Карапетян предложил:
– А давайте я вам, Павел Иванович, кое-что новенькое покажу. Давно ведь не смотрели мою коллекцию!
Мы обошли три комнаты, от пола до потолка завешенные полотнами. В четвёртой комнате хозяйка устроила будуар, и смотреть там было не на что, разве на её усы. Обозрев собрание Карапетяна, я пришёл в меланхолию. Некоторые известные мне полотна из коллекции были довольно умело подделаны. Поначалу, когда я увидел знакомый пейзаж Поленова с колокольней, подумал, что в комнате плохое освещение – вот колорит и показался непривычным. А присмотрелся и обалдел: это была другая работа. В оригинальном пейзаже есть несколько небольших пурпурных пятнышек – отражение заходящего солнца на луковке колокольни. Именно пурпурных, а не алых, не томатно-красных или вишнёвых. Фальсификатор мог бы добиться нужного колера, смешав несколько красок. Но у него то ли времени не было на это потное занятие, то ли желания. Вот и отметился какой-то вишнёвой дрянью.
Тогда я начал приглядываться и к другим работам. Белые розы Кончаловского в голубом кувшине смотрелись превосходно, но поддельщик и тут поторопился, допустив грубейшую ошибку. В оригинале стебли роз, просвечивающие сквозь голубое стекло, чуть-чуть преломляются в воде, как и положено по законам физики света, а в копии эти стебли прописаны кривыми палками, почти не дающими эффекта преломления. Опять спешили?
– Понятно, – сказал Клюшкин и посмотрел на часы. – Коллекцию пощипали, а вместо оригиналов повесили фуфели. Почему ты об этом до сих пор молчал, Павел Иванович?
– Потому что нас это до поры до времени не касалось. Ты же знаешь, Степан Дмитриевич, я не визжу, пока не пощекочут. И потом, ни у кого вода за губой не держится… Стоило шепнуть про фуфели у Карапетяна, как по Москве пошли бы разговоры. А он человек вспыльчивый и грубый, потому что прораб. Мне это надо, работать укротителем? Если ты не забыл, у меня спящий радикулит.
– Опять понесло… – досадливо поморщился патрон. – В наши годы пора становиться взрослым, Павел Иванович! Ладно… Кто фуфелей настрогал? Есть предположения?
Конечно, предположения у меня имелись – и весьма основательные. Был у Карапетяна в числе многочисленных племянников один меланхоличный юноша с нечёсаной художественной шевелюрой и грустными коровьими глазами, выпускник Строгановки. Мелкий дилер, он занимался бумагой, в основном, почтовыми карточками, но не брезговал и живописью, если попадались такие заказы. Подделать картины из дядюшкиного собрания сам он не смог бы по причине полной бездарности. А вот мастеровитые приятели из числа бесштанных и непризнанных гениев у него водились.
– Значит, племянник? – задумчиво пробормотал Клюшкин. – Ну, положим, наладил он производство фуфелей… А что же наш коллекционер – неужели не заметил? И почему хотя бы ты, Павел Иванович, ему ничего не сказал?
А зачем я вообще стал бы говорить Карапетяну, что у него в шкафу, набитом шубами, завелась моль? Он мне оплатил только экспертизу коровинского этюда. Ашот Саркисович сослепу не замечал подделок – иначе не повёл бы по закромам.
– Страшные дела творятся, дорогие господа коллеги, – сказал Шпонько. – Прямо форменный Шекспир. Позвольте высказать не такое уж безумное предположение. Молодая жена в предвкушении своего вдовства и в осознании, что ей от наследства достанется хрен да маленько, сговорилась с племянником пощипать коллекцию. Он на своей бумаге тоже не особенно жировал. Понятно, племянник и так имел доступ в дядюшкин дом, но без помощи изнутри, без пятой колонны, он не смог бы поставить производство подделок на поток.
– Логично, – согласился Клюшкин. – Молодой вдовице мало что достанется, большинство движимого и недвижимого отойдёт к детям и внукам. Даже если Карапетян в маразматическом любовном ослеплении завещает все Аиде.
– Это вряд ли, Карапетян не оставит детей нищими, – сказал Иван Фёдорович. – Не тот у него характер… Так что наша будущая вдовица стоит в самом хвосте очереди, между мажордомом и садовником.
– У Карапетяна был садовник? – удивился Клюшкин.
– Я думал, ты спросишь про мажордома, – поддел я патрона. – Иван Фёдорович выразился метафорически.
– Возвращаюсь к нашим агнцам, – сказал Шпонько. – Без сговора за спиной старика тут не обошлось. И дело не только в воровстве. Ведь ворованное кто-то должен был взять на комиссию! Боюсь, наши уважаемые и неуважаемые коллеги уже отметились, уже вкусили сладкой ягоды из чужого сада. То есть уже замазались по самое некуда. И хотят, чтобы мы тоже поучаствовали в общей пляске вокруг кучи дерьма. Это так объединяет… Поэтому главный мотор всего этого блядства, Аидочка, настойчиво стучится в нашу дверь. Ей кто-то очень умело присоветовал. У меня всё.
Я порассуждал о психологической составляющей аферы. Карапетян никогда не продавал картины из коллекции, поэтому повторная экспертиза при жизни хозяина им не грозила. И это учли поддельщики. Ещё они понимали, что если все всплывёт после смерти старика, то с покойника взятки гладки. Может, он сам заказывал фуфели по известным только ему резонам! Больше всего теряли теперь прямые наследники, но знали ли они истинную стоимость коллекции – ещё вопрос… Нам нельзя участвовать в вороньем пиру у постели умирающего Карапетяна. И не по этическим, а по экономическим соображениям. Если наследники докажут сделки Аиды юридически ничтожными, то мы на одних адвокатах разоримся.
– Поддерживаю предыдущего оратора в части психологической и экономической составляющих, – сказал Шпонько после моих соображений. – А присоветовать Аиде обратиться к нам могла и Коробочка. Уж она-то чужую ложку мимо своего рта не проносит…
– Что-то мне не по себе… – сказал Клюшкин. – Вы знаете, как я чую всякие гадости и нескладухи. Кожей чую! Неужели Аида настолько глупа, что не понимала: все откроется, и с неё первой спросится?
– Может, и понимала, но не до конца, – сказал я. – Она в антикварном бизнесе не работает, к тому же и жадность глаза застит. Но самое главное, господа, самое главное – это лишь наши допущения. Всё могло сложиться совсем не так. Мало ли какие дела творятся у них в древнем армянском колхозе! И по большому счёту мне наплевать, распнут ли родственники Аиду с племянником или сделают из них кололак. Это такое армянское мясное блюдо, если не знаете. Очень вкусное…
– Скажете тоже, вкусное, – передернулся Иван Фёдорович. – Особенно, из этой…
– Ты, Павел Иванович, бываешь чрезвычайно убедителен, когда хочешь, – сказал Клюшкин после долгого молчания. – Вот сучёнок… Это я про племянника. Теперь уже не важно, сам ли он все спроворил, или с полного согласия и одобрения Аиды. Мы на сделку не идём. Так и запишем.
– Ну и слава Богу, – с облегчением сказал Шпонько. – Большим куском можно и подавиться. А маленький кусочек мы в другом месте отщипнём. Кстати, тут опять зашебаршились вокруг Роди Спасопреображенского. Он собирается передать свои агитационные тарелочки в музей личных коллекций. А сынок, Родион Родионович, хорошо известный вам товарищ, тарелочки давно уполовинил. И ждёт не дождётся, пока мы эту красоту возьмём к себе на сохранение.
Да, Родион Родионович был хорошо нам известен… И не только нам, но и многим московским антикварам. Тащил у отца, выжившего из ума, все что ни попадя – от марок немецких колоний до агитационного фарфора. А мы делали вид, что не имеем представления, откуда у младшего Спасопреображенского редкие тарелочки с росписью Адамовича или сестёр Данько.
– Тарелки берём, – сказал Клюшкин. – Иначе Коробочка подсуетится.
– О Коробочке сугубо, – сказал Шпонько. – Я тут, вас дожидаючи, мух не ловил, навёл кое-какие справки. Нужные людишки у меня в разных местах сидят, в том числе и на Таганке. Пошёл шумок, что Коробочка где-то открыла невероятно талантливого художника – чуть ли не на Чукотке. И собирается весь его товар скупить на корню. Сейчас к этому художнику снаряжают человека. А мы тут что – не при делах?
– При делах, – успокоил я Ивана Фёдоровича. – Иначе зачем бы я у вас деньги на днях брал.
– Ладно, – сказал Клюшкин, поднимаясь и прихватывая пальто. – Кажется, все обсудили. А насчёт художника с Чукотки… Теперь понимаешь, Павел Иванович, почему нам надо поторапливаться?
– Уже поторапливаюсь, – сказал я. – Вечером билеты привезут, а завтра вылетаю.
– Завидую, – сказал Шпонько. – До Чукотки-то я не добрался, потому что делать мне там нечего. Металла нет, одна кость.
Однажды, когда я был ещё совсем зелёным репортёром «Советской культуры», меня вызвали к заместителю главного редактора. Человек он был сумрачный, колючий, до газеты работал в ЦК партии и к культуре, по-моему, никакого отношения не имел. Я шёл к нему с внутренней дрожью, припоминая последние публикации и торопливо подыскивая объяснения. Однако ожидаемого разноса не последовало. Более того, меня демократично усадили за приставной столик и дали стакан демократичного чая в подстаканнике. Напротив с таким же подстаканником уже сидел старичок в сером костюме. Запомнились холодные внимательные глаза и жёсткий седой хохолок надо лбом.
– Знакомься, – сказал мне заместитель главного. – Это Илья Самойлович Зильберштейн, коллекционер, писатель, лауреат и так далее… Ты же у нас искусствовед? Ну вот. Он искусствовед, Илья Самойлович! Поэтому будете дальше работать вместе. Понятно?
– Понятно, – кивнул я озадаченно. – А над чем работать?
– Илья Самойлович расскажет. Прошу!
Так я впервые услышал о безумной идее: создать в Москве музей частных коллекций.
– Личных! – каркнул в этом месте заместитель главного редактора. – У нас ничего частного нет и быть не может!
Позже под диктовку Зильберштейна я написал нечто вроде открытого письма к коллекционерам и музейной общественности. У нас его почему-то не напечатали, и появилось оно в «Литературной газете». Зато мне родная редакция заказала подборку коротких интервью по теме, и полдюжины известных деятелей культуры вроде директора Музея изобразительных искусств поддержали Зильберштейна. Несколько лет коллекционер стучался во все двери. Он выбрал очень правильную в тех условиях тактику: не возмущался, не сучил кулачками, а тихо и методично вдалбливал сидящим на культуре чиновникам свою идею. Впрочем, как потом я узнал, идея принадлежала князю Сергею Щербатову, который накануне Первой мировой войны построил на Новинском бульваре в Москве целый дом для музея частных коллекций.