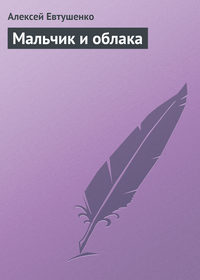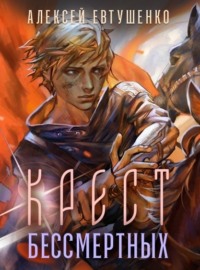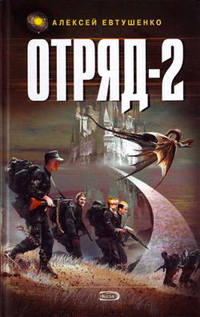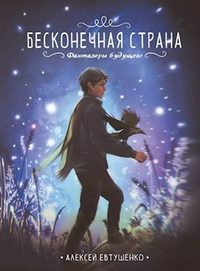Полная версия
Чужак из ниоткуда – 3
– Именно, – сказал Быковский. – Зачем? Даже с гравигенератором – это всё равно очень дорогое удовольствие. Престиж? Так американцы нас уже обогнали.
– Им проще, – добавил Береговой, – они деньги печатают, весь мир, считай, на доллар подсажен, как на наркотик. А мы на свои кровные рубли живём. И всё равно в декабре крайний раз полетят. «Апполон–17». Насколько мне известно, конечно. А мне известно.
– Отсутствие новой научной ценности и непомерные расходы американских налогоплательщиков, – явно процитировал Быковский. – Даже они поняли, что нечего пока на Луне человеку делать.
– При вчерашних обстоятельствах – да, нечего, – сказал я. – Но уже сегодня обстоятельства изменились.
– И как же они изменились? – поинтересовался Береговой.
– Энергия, – сказал я. – Миром будет править не тот, у кого много долларов, золота или даже нефти, а тот, у кого много дешёвой энергии. Луна – это и есть то самое море. Более того – океан.
– Поясни, – попросил товарищ генерал-майор.
Я пояснил.
Сначала повторил те же аргументы, которые приводил в разговоре с Фёдоровым и Березняком по поводу сверхпроводимости и месторождений редких земель, которые наверняка на Луне имеются в достаточном количестве. А затем выложил новый, который приберегал в качестве козыря:
– Гелий–3. Изотоп гелия. Два протона один нейтрон. На Луне его должно быть до фига и больше.
Почему я делал столь смелые предположения? Очень просто. На спутнике Гарада – Сшиве, очень похожей на Луну во всех смыслах, силгурды давно добывали и редкоземельные металлы и гелий–3 в необходимых количествах. Если всё это есть на Сшиве, должно быть и на Луне. Более того, мне было совершенно точно известно, что он там есть.
– Вы, конечно, знаете, что на Земле гелия–3 практически нет в природных условиях, – продолжил я. – Точнее, он есть, но добыть его – очень трудная и дорогостоящая задача. Зато гелия–3 много в солнечном ветре, он на Солнце постоянно вырабатывается. Если говорить просто и грубо, магнитное поле Земли не пускает солнечный гелий–3 в атмосферу…
– … а у Луны нет магнитного поля, поэтому он там в реголите спокойно накапливается в течение сотен миллионов лет, – закончил за меня Быковский. – Так?
– Бинго, Валерий Фёдорович! – воскликнул я. – Больше скажу. Есть в Америке такой научно-популярный журнал, Scientific American. Или, как его часто сокращённо называют сами американцы, Sci Am.
– Есть такой, – кивнул Быковский.
– Так вот. Как-то в библиотеке города Сент-Луис, что в штате Миссури, я наткнулся в одном из номеров этого журнала на данные исследования лунного грунта, который был доставлен на землю ещё экспедицией «Апполон–11»: Нилом Армстронгом, Майклом Коллинзом и Баззом Олдрином. Так вот, среди прочего в грунте был обнаружен и гелий–3.
– Устал тебе поражаться, Серёжа, – сообщил товарищ генерал-майор. – Как ты попал в Сент-Луис?
– Так меня же ЦРУ выкрало в апреле этого года, – сообщил я. – Хотели секрет антиграва получить. Только хрен им, а не секрет. Я сбежал и потом три месяца странствовал по США с бродячим цирком. Наши помогли домой вернуться, забрали меня из Сан-Франциско в июне. В конце месяца.
– Нет слов, – сказал Береговой. После чего достал из шкафа бутылку минеральной воды «Боржоми» и три стакана. – Будете?
– Будем, – сказал Быковский и посмотрел на меня. – Ты как?
– С удовольствием.
Береговой открыл воду, разлил по стаканам.
– Ну, за Луну.
– За нашу Луну, – сказал я.
Быковский засмеялся.
Чокнулись. Выпили.
– Продолжим, – сказал я. – Вы наверняка спросите, зачем нам гелий–3 в больших количествах?
– Мы примерно догадываемся, – усмехнулся Быковский. – Но ты всё равно расскажи. Хочется, так сказать, услышать из юных уст.
И я рассказал.
О безопасной с точки зрения радиационного заражения термоядерной реакции одной тонны гелия–3 с шестьсот семьюдесятью килограммами дейтерия, при которой гипотетически высвобождается энергия, равная энергии сгорания пятнадцати миллионов тонн нефти.
О том, что тридцати тонн гелия–3 хватит, чтобы обеспечивать всю Землю электроэнергией целый год, а по самым осторожным подсчетам на Луне могут быть сотни тысяч тонн этого изотопа…
– Погоди, погоди, – остановил меня в этом месте Береговой. – Ты так говоришь, словно действующий термоядерный реактор у тебя в кармане. А между тем до управляемой термоядерной реакции нам как до Юпитера. Если не дальше.
– Долетим и до Юпитера, Георгий Тимофеевич, – пообещал я. – Но сначала всё-таки Луна. В кармане не в кармане, а прикидки действующего термоядерного реактора уже есть, ими занимаются специалисты. Первые отзывы – положительные. Думаю, будет у нас управляемый термояд и довольно быстро. А следующий за ним – кварковый реактор и Дальняя связь.
– Это ещё что за звери? – спросил Береговой.
Я вкратце объяснил.
– Но это, конечно, ещё не завтра. Сначала, повторю, Луна и база на Луне. Без базы ничего не получится. Я слышал, у нас и проект такой базы уже имеется?
– Слышал он, – пробурчал товарищ генерал-майор. – От кого, интересно? На нём, между прочим, гриф «совершенно секретно» стоит.
– От Устинова, – сказал я просто. – Дмитрия Фёдоровича[8]
Космонавты переглянулись. Кажется, уже в третий раз за нашу встречу. Или четвёртый.
– Однако, – крякнул Береговой.
– Мы как раз обсуждали с ним экономическую целесообразность полётов на Луну, – пояснил я. – На кораблях с гравигенератором, разумеется. Пришли к предварительному выводу, что это может быть выгодно. Хотя, конечно, ещё нужно считать и считать. Но уже считают.
– Ты меня, Серёжа, конечно извини, – сказал Береговой, – но, если я сейчас позвоню Дмитрию Фёдоровичу, он подтвердит твой допуск? Потому что одно дело рассуждать о том, чего пока и близко нет и совсем другое – обсуждать имеющиеся сведения и планы под грифом «совершенно секретно».
– Хотите, могу сам позвонить, – предложил я. – У меня карт-бланш на подобные звонки. И не только на них.
– А позвони, – товарищ генерал-майор показал мне на телефон. – Вот с этого аппарата. Не вертушка, но девушка соединит.
– Знаю, – сказал я и снял трубку.
Секретарь ЦК КПСС Дмитрий Фёдорович Устинов оказался на месте.
– Здравствуй, Серёжа, – услышал я в трубке его голос. – Как твои дела?
– Всё в порядке, Дмитрий Фёдорович, спасибо, – сказал я. – Извините, что беспокою. Я сейчас в Калининграде, в Центре подготовки космонавтов, у нас обстоятельная беседа с товарищами Береговым Георгием Тимофеевичем и Быковским Валерием Фёдоровичем.
– Это насчёт Луны?
– Да.
– И, вероятно, руководитель Центра подготовки космонавтов товарищ Береговой сомневается в твоих полномочиях, а также допуске к секретным сведениям, – в голосе Устинова я уловил толику веселья.
– Угадали, товарищ генерал-полковник.
– Хватит уже, Серёжа, генеральничать. Для тебя я Дмитрий Фёдорович. Дай трубку Береговому.
– Вас, – я протянул трубку товарищу генерал-майору. – Устинов.
Выслушав секретаря ЦК КПСС, Береговой положил трубку и посмотрел на меня. Во взгляде боевого лётчика, фронтовика, космонавта и дважды Героя Советского Союза искра интереса, до этого лишь теплившаяся, перерастала в устойчивое и уже чуть ли не гудящее пламя. Подобное тому, которое вырвется скоро из дюз взлетающего к Луне космического корабля.
Это они ещё про мои отношения я Леонидом Ильичом Брежневым не знают, подумал я.
– Ну что? – полюбопытствовал Быковский.
– Думаю, у этого молодого человека допуски не ниже нашего, – сказал Береговой. – Чёрт, аж закурить захотелось.
– Вредно, – сказал Быковский.
– Без тебя знаю. Я не сказал, что закурю. Захотелось, – он дважды глубоко вздохнул и выдохнул. – Всё, уже перехотелось. Забавно. На войне я курил. Папиросы «Беломор». Иногда «Казбек». Знаете, от чего любил прикуривать?
Быковский отрицательно покачал головой.
– От керосиновой лампы, – сказал я. – От раскалённого воздуха, который из неё поднимается.
– Да он шаман, Валера! – воскликнул Береговой обескураженно.
Быковский засмеялся.
– Мой прапрадед был деревенским колдуном, – сказал я. – С животными умел разговаривать, гипнозом владел. Но на самом деле волноваться не о чем. Просто у меня есть один хороший знакомый, фронтовик, который тоже так любил прокуривать на войне. Только он танкист, а не лётчик. Вот я и догадался. Так что у нас с лунной базой?
– Есть такой проект, – подтвердил Быковский. – Называется «Долговременная лунная база „Звезда“». ГСКБ[9] «Спецмаш» делает, Владимир Павлович Бармин и его ребята. В заключительной стадии, основные параметры определены, эскизные и даже частично рабочие чертежи уже имеются. Даже интерьеры разработаны, в МАРХИ ребята-студенты делали. Талантливо. База на девять-двенадцать человек. Энергия – от солнечных батарей и ядерного реактора. Девять цилиндрических блоков-модулей. Каждый длиной восемь и шесть десятых метра и диаметром три и три десятых. В них – всё: жильё, командный пункт, научная лаборатория, мастерская, склад, медпункт, спортзал, камбуз со столовой. Всё вместе – около восемнадцати тонн. С твоим гравигенератором, конечно, всё это доставить на Луну будет гораздо проще, но всё равно деньги громадные, а финансирование затормозили.
– Ускорим, – пообещал я. – Даю слово. Деньги есть в стране, только на ветер их бросать не надо. В дело вкладывать.
– На ветер – это куда? – поинтересовался Береговой.
– Например, в качестве безвозмездной помощи развивающимся странам, – сказал я. – Миллиарды же впустую улетают. Лучше базу на Луне построим и миллиарды заработаем.
– Это политика, – поморщился Береговой. – Советую не лезть, Серёжа. Съедят.
– Бог не выдаст – свинья не съест, – сказал я. – Ничего, мы аккуратно, вежливо и даже нежно. Нахрапом не полезем.
– Нежно просить деньги на лунную программу – это что-то новенькое, – засмеялся Береговой.
– Учимся у женщин, учимся, – сказал Быковский, и теперь уже засмеялись мы все.
Мы проговорили ещё долго, обсуждая детали предстоящей лунной программы. Космонавты, наконец, поверили, что мальчишка, которого они видят перед собой, не просто гений-самоучка, который случайным образом набрёл на изобретение века, а человек с системным подходом. Пусть и очень молодой. Но испугать молодостью их было трудно. Эти люди и сами были до сих пор молоды. Даже фронтовик Береговой. По одной простой причине: они не разучились мечтать.
– Так что насчёт моего полёта на Луну, Георгий Тимофеевич? – спросил я, когда наша встреча подошла к концу. – Возьмёте, если всё получится? По-моему, это будет справедливо.
– Как у тебя со здоровьем?
– Лучше всех. И это не преувеличение. Могу прямо сейчас подтянуться на одной руке пять-семь раз.
– Ты спортсмен, что ли? – спросил Береговой.
– Не без, – ответил я. – Спорт люблю.
– Знаешь, как говорил наш начальник лётного училища? – спросил Быковский. – Если лётчик ходит, он уже спортсмен.
– Не понял, – сказал я.
– Травмы, – пояснил Береговой. – Спорт – это прекрасно, но он связан с травмами. Если лётчик получил травму на футбольном поле или, там, гимнастическом снаряде, его не допустят к полётам, пока травма не заживёт.
– Теперь понял, – сказал я. – Но я не лётчик. А космонавты не каждый день в космос летают, чтобы мелких травм опасаться. К тому же лично мне мелкие и даже крупные травмы вообще не страшны.
– Это ещё почему? – поинтересовался Береговой.
– После клинической смерти организм приобрёл способность к сверхрегенерации. На ходу всё заживает, куда там собаке. Как-нибудь продемонстрирую.
– Час от часу всё интереснее и интереснее, – сказал Быковский.
– Давай так, – сказал Береговой. – Заканчивай школу, поступай в институт, и мы посмотрим. Только институт выбирай правильный.
– Правильный – это какой?
– Бауманку, разумеется, с твоим-то складом ума и уже имеющимися знаниями. Московское высшее техническое училище имени Баумана. Оттуда к нам прямая дорога.
– Договорились. В следующем году ждите в отряд космонавтов.
Береговой улыбнулся и крепко пожал мне руку. Судя по ауре, сомнений насчёт меня у него почти не оставалось.
После встречи Быковский проводил меня до машины.
– Так что за конфиденциальный совет ты хотел? – напомнил он.
– Ах, да, – я остановился, не доходя нескольких шагов до машины. – Валерий Фёдорович, допустим, вам нужно узнать точное местоположение определённой звёздной системы в нашей галактике. Параметры звёздной системы известны. В какую обсерваторию вы бы обратились?
Глава шестая
Новые одноклассники. Моя милиция меня стережёт
Подготовка к экзаменам и сдача их экстерном заняли месяц.
Сам я обошёлся бы, максимум, неделей, но, как всегда, вмешались иные факторы.
В данном случае даже не бюрократия, а внутреннее сопротивление некоторых учителей данной конкретной московской школы, которые категорически не хотели признавать, что какой-то четырнадцатилетний выскочка из глухой провинции (Кушка? Это где вообще? Самая южная точка Советского Союза? Как и чему там могут научить?) способен на такие подвиги.
Пришлось снова подключать административный ресурс (на этот раз в виде РОНО[10] для приведения оных учителей в чувство.
Надо сказать, что большую помощь в данном вопросе оказала непосредственно и завуч школы Лидия Борисовна Гуменюк, которая после телефонного разговора с министром просвещения превратилась в ярую сторонницу моей скорейшей и успешной сдачи экзаменов с последующим исчезновением с её глаз.
Тем не менее, повторю, ушёл месяц. Даже в школу пришлось походить три недели, в тот самый восьмой «Г» класс, в котором, как я быстро понял, собрали самых бесперспективных и проблемных с точки зрения учёбы и поведения ребят и девчат.
Всего их в классе насчитывалось двадцать четыре. Я – двадцать пятый. Мало по сравнению с другими классами, где количество учеников переваливало далеко за тридцать.
Мне, впрочем, было всё равно, – я знал, что надолго здесь не задержусь. Поэтому и близко знакомиться ни с кем не собирался, хотя тут дело было не только в скоротечности моего пребывания в этой школе.
Проблема ровесников.
Она начала вырисовываться ещё в Кушке, и в Москве снова возникла.
Ну неинтересно мне было с большинством из них!
Поначалу, когда я только привыкал к своему новому юному телу и тому невероятному факту, что оказался на другой планете и даже в каком-то смысле в другом времени, это было свежо – снова почувствовать себя мальчишкой.
Но потом я быстро соскучился.
Дружба хороша, когда между людьми идёт какой-то обмен: информационный, смысловой, деловой, чувственный, наконец. А когда люди находятся в совершенно разных категориях… Поэтому мне так легко было в кушкинской футбольной команде, потом в Штатах, а также с Петровым и Бошировым – во всех случаях я имел дело со взрослыми. Да, они знали и умели гораздо меньше меня, но само их восприятие мира было взрослым, а я, как и они, был взрослым человеком. Пусть спрятанным в тело подростка. Это нас роднило.
Что там говорить! Даже на Гараде при всём нашем равенстве, братстве и обществе справедливости дружба между взрослым и подростком была крайне редким явлением. Таким же редким, как и здесь, на Земле. И это совершенно естественно – люди в силу своей природы всегда тянутся к тем, кто ближе им не только по образованию, профессии или увлечениям, но и возрасту.
Тем не менее, знакомиться с моими новыми пусть и недолгими одноклассниками, конечно, пришлось.
Для начала с соседкой по парте.
– Ты в физике сечёшь? – спросила она сразу, как только меня увидела, а случилось это минут за пять до начала урока.
Я окинул её быстрым взглядом.
Невысокая, медно-рыжая, с россыпью веснушек по носу и щекам. Глаза светло-карие, с зелёными крапинками, нахальные. Нижняя челюсть чуть выдвинута вперёд, но это её не портит. Наоборот, придаёт решительный и независимый вид.
– Секу, – ответил честно.
– Сам бог тебя мне послал! – воскликнула она. – Хоть его и нет. Я домашку не сделала, не смогла задачу решить. Поможешь?
– Давай тетрадь и учебник.
Секунда – тетрадь и учебник оказались на парте. Вторая – учебник раскрыт на нужной странице.
– Вот эта, – ткнула пальцем с коротко обрезанным ногтем.
«Стальная деталь массой 3 кг. нагрелась от 20 до 40 градусов Цельсия. Какое количество теплоты на это ушло?» – прочёл я.
– Смотри, – показал в учебнике. – Вот же формула. Удельную теплоёмкость стали нужно умножить на массу детали и разность температур. Всё очень просто.
– Если бы ещё знать, что такое удельная теплоёмкость стали… – пробормотала она.
– Это ключевой вопрос, – улыбнулся я. – Если быстро и просто, удельная теплоёмкость показывает, сколько теплоты нужно затратить, чтобы нагреть единицу массы того или иного вещества на один градус. В нашем случае один килограмм; вещество – сталь; градусы – по шкале Цельсия. Удельная теплоёмкость стали 500 – вот она, в таблице. Осталось только подставить значения. Пиши…
Следует признать, соображать и действовать быстро рыжая умела. Шариковая ручка залетала по бумаге.
– Тридцать тысяч получается? – она показала мне тетрадь.
– Верно. Только напиши «Дж». Это значит джоулей. Теплота в джоулях измеряется.
– Тридцать тысяч джоулей или тридцать килоджоулей. Верно?
– Вернее некуда.
– Класс! – воскликнула она и протянула руку. – Спасибо! Меня Таня зовут. Таня Калинина.
– Серёжа Ермолов, – я осторожно пожал её узкую тёплую ладошку.
– Будешь у нас учиться?
– Недолго.
– Как это?
– Потом расскажу, – пообещал я, потому что в класс вошла учительница, и начался урок.
На ближайшей перемене Таня быстро рассказала мне об одноклассниках, особое внимание уделив хулиганистой компании двоечников под предводительством второгодника Длинного – высокого, чуть сутулого парня с обманчиво равнодушным взглядом глубоко посаженных глаз на костистом лице и ныряющей, чуть в раскачку, приблатнёной походкой, которой любили щеголять некоторые кушкинские пацаны.
К слову, не только они. Такая походка встречалась мне и в Штатах, там её называли «гангстерской» или «чикагской», что лишний раз подтверждало старую истину: мода не знает границ. Будь это мода на одежду, образ жизни и даже походку.
– Это кличка такая – Длинный? – спросил я.
– Ага, – ответила Татьяна. – Фамилия его Коровин. Но шутить на этот счёт не советую. Коровой, там, называть или ещё как… Вообще не советую с ним связываться. Тот ещё гад.
– Что так?
– Мальков обижает. Отнимает деньги. Папаша у него мент, мамаша в торговле, вот он и пользуется. Всё с рук сходит.
– Ясно, – сказал я. – Плохо это, надо бы исправить.
– Пробовали уже. Бесполезно. Папаша-то не простой мент, а целый майор, начальник нашего РОВД[11]. И у мамаши связи большие.
– А что Гуменюк?
– Завуч? Ну, она знает, что Длинный после восьмого из школы уйдёт по любому. Сделает всё, чтобы его выпихнуть и вздохнуть с облегчением.
Как и меня, подумал я. Причина разные, желание одно. С пониманием.
Столкновения с Длинным и его компанией, разумеется, избежать не удалось.
Дело было на школьном дворе во время большой перемены. Я стоял, ловя лицом тёплые солнечные лучи и сетуя про себя, что осень в Москве наступает гораздо раньше, чем в Кушке.
Длинный (я уже знал, что зовут его Валентин) с тремя подпевалами ошивался неподалёку. Мне даже ауры этих четверых не нужно было разглядывать, чтобы понять их намерения – ищут жертву.
Во дворе было полно школьников.
Стайка девчонок лет одиннадцати-двенадцати играла в «классики», расчертив их мелом на асфальте. Несколько парней из девятых и десятых классов, отойдя подальше, за угол школы, курили. Мелкотня носилась в догонялки. Кто-то читал учебник. Кто-то книгу. Несколько раз я поймал на себе заинтересованные взгляды девчонок и оценивающие пацанов. Однако никто к новенькому не подходил, а моя единственная знакомая – Таня Калинина осталась в классе, учить домашку к очередному уроку, видать, накануне совсем не до этого было.
– А ну стой, очкарик! – услышал я чуть гнусавый голос Длинного (почему они все гнусавят, специально, чтобы противнее было?).
Жертва – белобрысый пацан лет десяти-одиннадцати, в серой школьной форме и очках с толстыми стёклами покорно замер. Я видел, как он хотел незаметно проскользнуть за спинами неприятной компашки, но один из подпевал Длинного заметил маневр и толкнул солиста в бок.
– Иди сюда.
Пацан сделал два шага к своему мучителю и остановился. Даже не думал, что это меня так заденет, но прямо по сердцу резануло, когда я увидел, как за стёклами его очков блестят слёзы.
– Мамка денег сегодня дала? – продолжал Длинный.
– Дала, – шёпотом ответил малёк.
– Сколько?
– Гривенник… – ещё тише.
– Тебя мамка не учила, что врать старшим нехорошо?
Подпевалы заржали. Длинный самодовольно ухмыльнулся. Мне это всё надоело.
Незаметно для всех я очутился за спиной Длинного (он и впрямь был длинный, выше меня на полголовы) похлопал его по плечу:
– Отцепись от малька, Длинный.
– Чего? – Валентин повернулся ко мне. – А, новенький. Стой, где стоял, новенький. Целее будешь.
– Тебя как зовут, малёк? – спросил я у белобрысого мальчишки.
– Дима, – ответил тот тихо. – Дима Малышев.
– Ты в школу шёл, в класс?
– Да.
– Вот и иди.
Он неуверенно посмотрел на меня, перевёл взгляд на Длинного.
– Иди, иди, – сказал я ласково. – Я разрешаю. И не бойся, никто тебя больше не тронет.
– Вот так хочешь? – вкрадчиво осведомился Длинный.
Видя, что внимание его врага переключилось на меня, Дима тихонько попятился. Но, молодец, не убежал, остановился чуть в стороне, наблюдая за развитием событий.
– Ага, – сказал я. – Вот так.
– Тогда с тебя рубль. Этот малёк мне рубль должен. Теперь его долг на тебя перешёл.
– Ру-убль? – протянул я.
– Ага.
– Завтра, – сказал я. – Или послезавтра. Спросишь у Пушкина Александра Сергеевича.
– Ты не понял, козёл, – Длинный протянул руку и попытался взять меня за грудки.
Ну, это совсем просто, если не бить.
Правой рукой берём противника за запястье, переносим локоть ему за плечо, подставляем правую ногу и резко поворачиваем локоть на себя, одновременно, заламывая противнику кисть левой рукой.
Раз-два, и Длинный падает на спину.
Я упираюсь ему коленом в грудь и заламываю запястье так, чтобы почувствовал. Он пытается вырваться, но это бесполезно, – я намного сильнее.
– Больно! – вопит он. – Пусти!
– А вы, шакалы, – я чуть поворачиваю голову к подпевалам, один из которых делает неуверенный шаг вперёд, – кто рыпнется, ноги из жопы повыдёргиваю.
В моём голосе – металл. Такой, что им можно запросто рубить железные рубли.
Шакалы это слышат и благоразумно отступают. Всё правильно, так и должно быть, – шакал с хорошей чуйкой сразу понимает, когда добыча превращается в хищника.
– Пусти, сука! – уже не вопит, а шипит Длинный. – Пусти, хуже будет?
– Хуже – это как, так? – спрашиваю я, усиливая залом.
– А-а-а! Руку сломаешь!
– Запросто. На хрена тебе рука, скажи, пожалуйста, у маленьких и слабых деньги отнимать?
Длинный молчит, рожа красная, в глазах слёзы пополам с ненавистью.
– Значит, так, – говорю. – Повторяй за мной. Сергей Петрович, клянусь жизнью своей матери, что больше никогда не обижу слабого.
– Да пошёл ты… мой отец тебе устроит весёлую жизнь, обещаю, сволочь…
Надо же, упорный. Ну тогда так.
В два движения переворачиваю его лицом вниз. Заламываю классическим приёмом руку в плече, хватаю за волосы, тычу лицом в пыльный и грязный асфальт:
– Ещё раз. Повторяй за мной. Сергей Петрович.
– Сергей… Петрович.
Ага, дошло кажется.
– Клянусь жизнью своей матери.
– Клянусь… жизнью своей матери…
– Что больше никогда не обижу слабого.
Он покорно повторяет.
– Вот и молодец. Теперь свободен.
Я его отпускаю, поднимаюсь. Длинный встаёт, не глядя на меня уходит, держась за руку. Отойдя на несколько шагов, оборачивается.
– Ты ответишь, – слышу я. – Это я тебе точно обещаю.
– Я-то отвечу, – говорю. – Но ты клятву дал. Не забывай об этом. Сначала будет трудно, но потом полегчает, тоже обещаю.
Шакалы неуверенно топчутся на месте, они совершенно не понимают, что им теперь делать.
– Брысь отсюда, – говорю чётко и внятно.
Пятятся, поворачиваются, исчезают.
Дима Малышев восторженно смотрит на меня.
Я улыбаюсь ему, подмигиваю, треплю по плечу, и мы вместе идём в школу. Звенит звонок. Большая перемена закончилась.
На уроках Длинный уже не появился. Шакалы бросали на меня опасливые взгляды, шептались по углам. К концу занятий вся школа знала, что произошло, о чём мне и поведала моя соседка Таня Калинина.