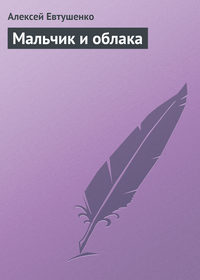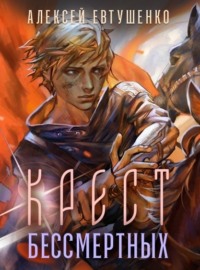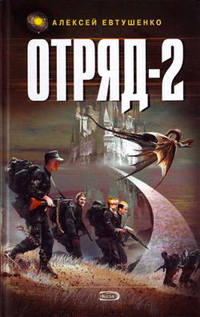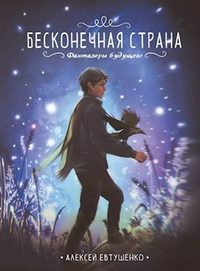Полная версия
Чужак из ниоткуда – 3
Меня устраивал. Я даже не стал спрашивать, почему в лечении верного сына партии не использовать мои способности. Может быть потому, что сам не особо этого хотел? В конце концов, всех вылечить невозможно, а Андропов и впрямь был очень болен, я это сразу заметил. К тому же было в этом человеке что-то для меня весьма и весьма несимпатичное. Слишком скользкий. С двойным, а то и с тройным дном. Взять моё похищение. Я много размышлял, было время, и пришёл к выводу, что председатель Комитета государственной безопасности СССР мог иметь к этому отношение. Разумеется, никаких доказательств у меня не было, но чисто теоретически, если предположить, что я со своими знаниями должен был сыграть роль разменной монеты… В конце концов, властные амбиции Андропова прочитывались в его ауре, а США уже чуть ли не на глазах всего мира сваливались в жесточайший кризис, в связи со своей, на мой взгляд, абсолютно идиотской войной во Вьетнаме. Так что могли быть какие-то тайные договорённости, вполне могли. Но я своим побегом спутал карты всем. В результате товарищ Андропов хоть и остался номинально председателем КГБ СССР, но от реальных дел был отстранён. По состоянию здоровья, разумеется, как же иначе. ЦРУ же, не успев разрулить дело со мной, с размаху вляпалось в Уотергейтский скандал. В результате чего уже все козыри оказались на руках Леонида Ильича Брежнева, который, ко всему прочему, неожиданно для всех вернул себе здоровье и молодую энергию. Так как, стоит это всё денег или нет?
– Всё понятно, Леонид Ильич, – сказал я. – Спасибо за ответ.
– Вот и хорошо, что понятно. Но продолжим. Денег много не бывает. Особенно с той работой, что тебе предстоит. Поэтому учти, что твои должности консультанта предполагают зарплату. Весьма неплохую, кстати.
– Какую, если не секрет?
Зарплату я ещё в СССР не получал, только гонорар, и мне стало интересно.
– Что-то порядка трёхсот пятидесяти рублей в обоих случаях, не помню, уточнишь у Цуканова.
– В обоих это…
– Верховный Совет и ЦК, в КГБ тебе зарплата не положена, ты там вне штата.
– Значит, в общей сложности семьсот?
– Да, это без вычета налогов. Плюс ежеквартальные премии и прочее, тебе расскажут.
Очень неплохо, подумал я. Семьсот в месяц «грязными» плюс премии, да плюс «узбекские» деньги… Жить можно. Папа столько не зарабатывает.
– Это ещё не всё, – продолжил Леонид Ильич. – Мне прекрасно известно, как работает наша советская бюрократия и сколько палок в колёса тебе насуют, как только ты возьмёшься за дело по-настоящему. А я надеюсь, ты возьмёшься за него по-настоящему, – он испытующе посмотрел на меня.
– Можете не сомневаться, Леонид Ильич, – заверил я. – Иначе и браться не стоит.
– Так вот. Чтобы эти палки обломать, насколько возможно, выделим тебе машину со спецсвязью. Дома у тебя тоже установим спецсвязь. Что это такое, знаешь?
– Нет, но догадываюсь.
– В случае, когда другого выхода нет, звони прямо мне. Соединят. В том случае, если Цуканов не сможет решить проблемы. Или Алексею Дмитриевичу.
– Бесчастнову? – уточнил я.
– Ему. Он, как первый нынче заместитель председателя Комитета госбезопасности, исполняет его обязанности. Кстати, на днях получил генерала-полковника, можешь его поздравить.
– Обязательно, – сказал я. – Рад за него.
– Я тоже рад, – Брежнев пожевал губами. – Ради дела можешь звонить вообще любому министру или должностному лицу страны. Справишься?
– Уж номер набрать как-нибудь сумею, – сказал я.
Брежнев усмехнулся.
– Вот и хорошо. Впрочем, мы с тобой теперь будем часто видеться хотя бы какое-то время, так что и без всякого телефона можешь мне рассказывать обо всём и просить любой помощи.
Машина оказалась не только со спецсвязью, но и с усиленным корпусом, ходовой и движком. Переделанная ГАЗ–24 белого цвета (я отказался от чёрной, слишком официально, а белый мне нравился) летала по Москве, легко обгоняя кого угодно и всюду успевая.
Василий Иванович, которого я попросил оставить мне в качестве личного шофёра, нарадоваться не мог на машину, а я на него, – он знал Москву лучше любого таксиста, и карта города лежала в «бардачке» исключительно для проформы.
А мотаться по городу пришлось много. Много и быстро. Дел навалилось столько, что просто мама не горюй.
Кстати, мама и не горевала. Хотя, конечно, очень за меня волновалась. Особенно поначалу.
Как не волноваться, если у тебя дома звонит телефон, а на другом конце провода человек представляется личным помощником Брежнева Цукановым Георгием Эммануиловичем и просит к телефону твоего сына, которому и пятнадцати не исполнилось, хотя по паспорту целых шестнадцать? И это ещё не самый интригующий вариант.
Август пролетел московским соколом – в трудах и преодолениях бюрократических препон. Я прекрасно понимал, что козырную карту с Леонидом Ильичом по любому поводу использовать не стоит, поэтому в большинстве случаев старался решить вопрос самостоятельно, или подключая тех или иных должностных лиц, которые ещё способны были на проявление инициативы и понимали, куда начинает дуть ветер.
Увы, таких было мало. Приходилось разъяснять, уговаривать, льстить, давить и даже угрожать. Дело двигалось, но медленно. Гораздо медленнее, чем я рассчитывал. К тому же сопротивление чаще всего было активным. То есть человек, обличённый властью, видя перед собой четырнадцатилетнего пацана, отторгал его инициативы с порога. Даже зная, что соответствующие полномочия у пацана имеются. Даже видя, что инициативы эти правильные и могут принести стране большую пользу.
Натура и самолюбие не позволяли. Ещё возраст, конечно же. Мужики за сорок, пятьдесят и шестьдесят, многие из которых прошли войну, имеющие награды и заслуги перед Родиной, просто не могли на равных ко мне относиться. Яйца курицу не учат. И весь сказ.
Поэтому чаще всего я убеждал. С цифрами, чертежами и схемами в руках доказывал свою правоту. Для этого пришлось хорошенько поработать над своими техническими записями, которые в своё время я оставил Андропову. Значительно их дополнить и уточнить по каждому разделу.
Четыре слона: Энергетика, Космос, Информация и Воспитание, стоящие на черепахе по имени Безопасность. Каждый требовал особого и неусыпного внимания.
Проще всего, как ни странно, оказалось с первыми двумя – энергетикой и космосом. Хотя, если разобраться, ничего странного. Действующий гравигенератор уже был построен. Более того, в сентябре, в подмосковной Дубне, на базе Дубнинского машиностроительного завода, должен был начать работу первый в стране опытный цех по сборке уже промышленных гравигенераторов разной мощности.
Почему был выбран Дубненский завод?
Оборона. Она же черепаха по имени Безопасность. Заодно и космос.
Но обо всём по порядку.
Случайно или нет, но ещё в июне, когда я только-только появился в славном городе Сан-Франциско, в Дубне было создано Дубненское производственно-конструкторское объединение (ДПКО) «Радуга». Как раз на базе Дубненского машиностроительного завода и Дубненского же машиностроительного конструкторского бюро при заводе с тем же семицветным названием. Плюс к этому завод в Смоленске, филиал Московского машиностроительного завода «Зенит» им. А. И. Микояна.
Данное предприятие должно было заниматься разработкой новых крылатых ракет, в том числе и гиперзвуковых, а также первого в мире боевого орбитального самолёта. Последний представлял собой целую многоразовую авиационно-космическую систему под кодовым названием «Спираль».
По замыслу проектировщиков, это должен был быть гиперзвуковой самолёт-разгонщик и, собственно, уже орбитальный самолёт, который поднимался разгонщиком на высоту порядка тридцати километров и дальше отправлялся в полёт сам. Масса гиперзвукового разгонщика, максимальная скорость которого должна была достигать шести Мах[2], предполагалась около пятидесяти двух тонн (при общей длине тридцать восемь метров и размахе крыльев шестнадцать с половиной метров). Плюс сам орбитальный пилотируемый разведчик-перехватчик длиной восемь метров, размахом крыльев семь с половиной метров и массой, как минимум, десять тонн.
Фантастически смелый проект. Но безумно дорогой и почти невыполнимый технически. Даже для такой страны как Советский Союз. Думаю, что в «Радуге» все это понимали.
А тут им на стол – бац! – действующий гравигенератор.
Подарок с небес, можно сказать. В прямом смысле слова, хоть они об этом и не знали.
Помню лица Федорова Николая Павловича и Березняка Александра Яковлевича – директора и главного конструктора новой «Радуги», когда я впервые, после совещания в Совете министров, приехал в Дубну и продемонстрировал возможности гравигенератора. А затем вручил техническую документацию на него, которая к этому времени была уже разработана. В первом приближении, разумеется.
Неверие. Сомнение. Изумление. Чуть ли не детская радость.
Эти четыре эмоции, следующие одна за другой, читались на их лицах явственней, чем слово «арбуз» в азбуке.
– Это что же получается, – с некоторой растерянностью осведомился Березняк, – вот он, гиперзвук, перед нами лежит?
– Не только гиперзвук, Александр Яковлевич, – сказал Фёдоров.
– Понятно, что не только. Тут и новые двигатели, и Луна, и много что ещё. Массу ракеты, космического или любого другого аппарата или объекта-субъекта гравигенератор, разумеется, не уменьшит, это невозможно, но вес или, говоря иными словами, силу тяжести… Собственно мы только что своими глазами всё видели. Невероятно. Просто невероятно! Молодой человек, – он пристально посмотрел на меня. – Вы понимаете, что вы сделали? Космос теперь наш! Во всех смыслах.
Он шагнул ко мне, обнял порывисто, отстранился, коснулся указательным пальцем моего лба и спросил:
– У тебя ещё много такого здесь?
– Кое-что имеется, – улыбнулся я.
– Николай Павлович, – обернулся Березняк к Фёдорову. – Я прошу… Нет, я требую, чтобы мы немедленно приняли этого молодого человека на работу.
– У меня образования нет, Александр Яковлевич, – сказал я. – Самоучка. Даже чертить как следует не умею. Только рисовать.
– Научим! – махнул рукой главный конструктор, он явно загорелся своей идеей и желал немедленно воплотить её в жизнь.
– Ты не был на совещании, Александр Яковлевич, и потому не в курсе, – сказал Фёдоров. – Этот молодой человек действительно самоучка. Но такой, каких лично я не припомню. Работа у нас слишком мелко для него.
– Не мелко, – поправил я. – Совсем не мелко. Просто я уже работаю и, боюсь, мой работодатель не одобрит перехода. А у вас обещаю появляться очень и очень часто. Космос – не просто моя детская мечта. И Луна нам нужна не только для того, чтобы добывать там редкие земли. Хотя, с учетом сверхпроводящего контура, который используется в гравигенераторе, редких земель нам потребуется много. В частности, лантана и бария.
– А для чего ещё? – живо спросил Александр Яковлевич.
– Станция Дальней связи с кварковым реактором, – сказал я.
– Дальняя связь это…
– На основе так называемой квантовой запутанности. Мгновенная связь на любом расстоянии. Повторю. На любом. Но она требует океан энергии. Для этого – кварковый реактор.
– Голова кругом, – потряс головой Березняк. – Откуда вы взялись, молодой человек? Простите, Сергей… как вас по батюшке?
– Петрович. Можно просто Серёжа.
– Из города Кушка он взялся, – сказал Фёдоров, усмехаясь.
– Кушка. Погодите. Самая южная точка Советского Союза?
– Она, – сказал я.
– Бросить, что ли, всё к чёрту и уехать в Кушку, – задумчиво произнёс Березняк, и они с Фёдоровым рассмеялись. Видимо, над чем-то своим.
Глава третья
Алексей Николаевич Косыгин. Экономика и… экономика. Вопросы электричества. Польза землячества. Снова в школу
Да, сотрудничество с «Радугой» вышло очень удачным. На работу, как и было сказано, я к ним не устроился, но зато договорился, что их патентный отдел займётся законным оформлением всех моих изобретений. За соответствующий процент от положенных выплат. Которые, к слову, удалось увеличить в разы, благодаря появившимся крепким связям в Совете министров. Здесь, как и в массе других случаев, мне хорошо помогал председатель Совета министров СССР Алексей Николаевич Косыгин. Ему было уже почти семьдесят – старик по здешним меркам, но организованности и работоспособности этого человека могли позавидовать и молодые. Он с самого начала, как настоящий государственный деятель и хозяйственник, с большим вниманием отнёсся к тем возможностям, которые открывали мои нововведения, а уж после того, как мне удалось несколькими сеансами подлечить его весьма истрёпанное сердце, и вовсе шёл мне навстречу практически во всех вопросах. Во всяком случае, в главных.
Вообще, невольно втягиваясь в народно-хозяйственную, экономическую жизнь моей новой Родины, я стал замечать массу интересных вещей, на которые раньше совершенно не обращал внимания.
Взять Косыгина. Я знал о его реформах, которые Алексей Николаевич затеял восемь лет назад, в тысяча девятьсот шестьдесят пятом году, когда мальчик Серёжа Ермолов пошёл в школу, а инженер-пилот Кемрар Гели покорял космическое пространство системы Крайто-Гройто и мечтал стать пилотом-испытателем первого в истории нуль-звездолёта, который только-только начали закладывать на орбитальных стапелях Сшивы.
Знал, но поначалу мало что в них понимал. Как-то не до этого было. Да, в Академии Кемрар Гели, как и любой будущий инженер, учил экономику Гарада и даже её историю. Но, прямо скажем, довольно поверхностно. Тем не менее, и этих поверхностных знаний мне хватило, чтобы понять – развитие экономики СССР и Восточного Гарада шло, во многом, схожими путями. Только Восточный Гарад, пожалуй, меньше бросало из крайности в крайность.
Возможно потому, что Восточный Гарад никогда не отказывался от частной собственности, как таковой. Включая собственность на средства производства. Ограничивал её размеры, иногда весьма жёстко – да. Но не отменял и не запрещал. Личная свобода – это, разумеется, большая ответственность, но ещё и возможность проявить инициативу. А если силгурда (или человека, что одно и то же) полностью оной инициативы лишить, вменяя ему только послушно исполнять волю партии власти, то очень скоро мы получим застой прогресса и общественное болото, которое загниёт, завоняет, отравит само себя и, в конце концов, погубит страну. Золотая середина, известная на Земле со времён Аристотеля(на самом деле ещё раньше) и так же тысячи лет на Гараде, – это не только философское понятие, но величайший действенный инструмент. Как для отдельного человека, так и для целого государства. Главное – уметь и не бояться им пользоваться. В СССР, по моим наблюдениям, пока не очень умели.
«Гнём палку, пока не затрещит, – как любил говорить по данному поводу мой папа, – потом начинаем гнуть в другую сторону и тоже до треска».
Так вот, реформы Косыгина, если говорить прямо, и были той самой попыткой «выпрямить палку» – исправить то, что наворочал в экономике предшественник Брежнева – Хрущёв.
Хозрасчёт и большая самостоятельность предприятий.
Та самая инициатива.
Другое дело, что хозрасчёт Косыгина отличался от хозрасчёта сталинских времён (который, собственно, угробил товарищ Хрущёв) и отличался, на мой взгляд, не всегда в лучшую сторону, но тут уж я старался особо не лезть – и так слишком много на себя брал, следовало не забывать о той самой личной золотой середине.
Но дело не только в реформах.
Я с удивлением замечал, что люди – коммунисты и беспартийные – родившиеся ещё до революции и возмужавшие в первые годы Советской власти, зачастую обладают более твёрдой волей к достижению цели и умеют лучше работать, нежели те, кто родился незадолго до Великой Отечественной войны, во время или сразу после неё. То бишь, относящиеся к поколению моих родителей. Логически здесь всё было понятно – те, кто сегодня управляли народным хозяйством великой страны – Союзом Советских Социалистических республик – вынесли на своих плечах столько трудностей и бед, что никаким пером не опишешь. Такой закалки не было больше ни у кого из ныне живущих. Отсюда и все вышеперечисленные качества.
Одно плохо – все они были уже в возрасте, часто обременены болезнями и не могли работать столь эффективно, как раньше. Плюс естественный возрастной консерватизм.
Тем не менее, дело двигалось.
Только сейчас, глядя на этих людей, я начал по-настоящему понимать воспитательное значение Трёх Больших Дел, которые должен был совершить каждый юный гарадец перед вступлением во взрослую жизнь. Эти испытания, которые требовали от юношей и девушек напряжения всех своих сил – как душевных, так и физических, испытаний, зачастую связанных с риском для жизни и здоровья, давали ту самую закалку, о которой я говорю. По крайней мере, похожую на неё.
Нечто подобное я намеревался ввести в Школе новых людей, которую ещё предстояло организовать. Благо подобные и другие прогрессивные идеи по воспитанию нового человека витали в воздухе и даже воплощались на страницах советских научно-фантастических книг у того же Ивана Ефремова и братьев Стругацких, которых, как и других глубоко мыслящих писателей и деятелей культуры, я намеревался активно привлечь к созданию ШНЛ.
Но пока всё время отнимали слоны по имени Космос и Энергетика, а также черепаха Безопасность, работа с которыми довольно быстро начали давать видимый результат. Понятно, почему.
Гравигенератор и, неразрывно связанная с ним сверхпроводимость при комнатной температуре. Не на бумаге, а – вот оно, в материалах и действует!
К космосу мы еще вернемся, поговорим об энергетике и безопасности (на этот раз без злоупотребления прописными буквами).
После знаменитого совещания в Совете министров СССР, о котором я уже упоминал и сразу после посещения Дубны, у меня состоялся разговор с Непорожним Петром Степановичем – министром энергетики и электрификации СССР.
К тому времени я стал обладателем четвёртой «корочки» от Совета министров, так что попасть в известное здание на проспекте Маркса проблем не представляло.
Паркет, ковровые дорожки, деревянные панели, приёмная… За последнее время хождение по высоким кабинетам (включим сюда и недоброй памяти посещение штаб-квартиры ЦРУ в Лэнгли) стало привычным.
Даже хороший итальянский костюм пришлось купить вместе с соответствующими рубашками в качестве рабочей одежды и научиться завязывать галстук. Благо, с моими нынешними связями это особых проблем не доставило. Покупку костюма я имею в виду, с галстуком неожиданно возникли трудности – оказалось, что папа его завязывать не умел. Точнее, умел, но каким-то совсем простым узлом, который я сходу обозвал «колхозным» – это словечко частенько употребляли кушкинские пацаны в значении «немодный», «устаревший» и даже «убогий». Как немедленно выяснилось, мама тоже не умела.
– Чего ты хочешь? – чуть было не обиделся папа. – У военных галстук на резинке, а гражданский костюм я последний раз надевал лет десять назад. Тогда же и галстук завязывал.
– Могу по соседям поспрашивать, – вызвалась мама. – Кто-нибудь наверняка умеет.
– Попроси дедушку Лёню научить, – сказала Ленка. – Он должен уметь.
– Какого дедушку Лёню? – обеспокоилась мама. – Нет у нас никакого дедушки Лёни. Дедушка Лёша есть и дедушка Ваня.
– Есть, – затараторила Ленка. – Дедушка Лёня Брежнев! Он как-то звонил, вас не было, я трубку взяла, спросила, кто говорит, как вы учили. Он спросил, кто у телефона. Я сказала, что Лена. А я дедушка Лёня, сказал. Я спросила, какой дедушка Лёня, у нас только дедушка Лёша и Ваня, как мама сейчас сказала, а он говорит, – дедушка Лёня Брежнев. Вот! – и Ленка торжественно оглядела всех нас троих, потерявших дар речи.
Сама того не подозревая, Ленка натолкнула меня на мысль, и я позвонил Петрову.
– Приезжай на Лубянку, – весело согласился товарищ майор. – Научим. Сотрудник Комитета госбезопасности, пусть и нештатный, должен уметь всё.
Так что завязывать галстук разными узлами меня научили Петров с Бошировым, которые устроили из этого целое театральное представление в своём стиле.
А куда деваться? Поначалу ходил всюду в своей американской одежде (джинсы, футболка, кроссовки), но быстро понял, что русская пословица «по одёжке встречают, по уму провожают» не утратила актуальности. Если хочу, чтобы дело двигалось быстрее, не фиг бравировать своей раскованностью и небрежностью в одежде. Взрослые серьёзные дяди ходят в костюмах? Так здесь положено? Вот и ты ходи. Ничего, привык, даже понравилось. Нечто вроде униформы, которая дисциплинирует сама по себе. В конце концов, Кемрар Гели тоже носил когда-то в прошлой жизни униформу. Пусть гораздо более свободного кроя, нежели современные земные мужские костюмы, и галстук к ней не был предусмотрен, но всё же.
Пётр Степанович Непорожний – седовласый, гладко выбритый, улыбчивый человек лет шестидесяти – встретил меня без пиджака, который висел у него на спинке стула. Верхняя пуговица белой рубашки, как я заметил, была расстёгнута, а узел модного галстука расслаблен. И то сказать, – лето в Москве ещё не кончилось.
– Так вот вы какой, Сергей Петрович, – произнёс, поднимаясь мне навстречу. – Молод, молод. Здравствуйте!
Рукопожатие у него было в меру крепким, уверенным. Золотая середина.
– Можно на «ты» и просто Серёжа, – сказал я привычно и так же привычно оценивая ауру министра (давно взял это за правило). Хорошая аура, чистая. С этим человеком можно иметь дело.
– Что ж, как скажешь, – быстро согласился Непорожний и, словно отвечая на мои мысли, продолжил. – Давай сразу к делу. Как всегда, их невпроворот. Про твои четыре слона и одну черепаху я запомнил. Остроумно, наглядно и во многом верно. Меня, как ты понимаешь, интересует мой слон.
– Энергетика, – кивнул я. – Естественно. Прямо сразу могу вам предложить сверхпроводимость. Да вы, наверное, и сами понимаете.
– Понимаю. Но гравигенераторы мне тоже пригодятся.
– Они всем пригодятся, – сказал я. – Однако для начала нужно наладить их выпуск. Этим уже занимаются, но на то, чтобы выйти хоть на какие-то значимые объёмы, требуется время.
– А сверхпроводимость – вот она, – закончил он мою мысль. – Бери и пользуйся.
– Не совсем так, но…
– Близко, – закончил он за меня. – Если четырнадцатилетний мальчишка сумел в каком-то алмалыкском сарае собрать сверхпроводящий контур, то уж наша энергетическая промышленность как-нибудь с этим справится, а? – он задорно подмигнул.
– Да уж надеюсь, – улыбнулся я, невольно заражаясь его оптимизмом. – Думаю, о передаче электроэнергии на большие расстояния почти без потерь говорить рано – у нас просто не хватит редкоземельных элементов, но вот что касается выработки оной, здесь можно поднять значения в разы и за относительно короткое время.
– Обмотка, – сказал Пётр Степанович.
– Да, – подтвердил я. – Причём не только электрогенераторов и электромоторов.
– Магнитные катушки, – сказал Пётр Степанович. – А значит, надёжные магнитные ловушки. Следовательно – термояд. Море дешёвой энергии.
Воистину, этот человек был на своём месте и ловил всё на лету. Что ж, ничего удивительного, в конце концов, насколько я успел узнать, он был не только умелым чиновником, но и доктором технических наук.
– Да, – снова подтвердил я. – Термоядерный реактор. А в недалёкой перспективе, надеюсь, и кварковый.
– Ну, это уже какая-то чистой воды научная фантастика, – вежливо улыбнулся Непорожний. – Кварковый… Тут ещё не знаешь точно, существуют ли они в реальности, кварки эти, а ты – реактор!
– Эксперименты шестьдесят восьмого года в Стэнфорде, на тамошнем линейном ускорителе, доказали, что кварки существуют, – сказал я. – Шесть кварков для мистера Марка![3]Нижний, верхний, странный, очарованный, прелестный, истинный.
– Ужас до чего у нас эрудированная молодёжь пошла, – пробурчал Пёрт Степанович. – В оригинале всё-таки три. Ладно, уговорил. Кварковый так кварковый.
– Тринадцатилетний, – сказал я.
– Что?
– Тринадцатилетний мальчишка собрал сверхпроводящий контур в алмалыкском сарае. Но не один, я с помощью товарища – почти ровесника и двух взрослых людей. Один из которых имел доступ к редким землям, а второй – мой дед – просто мастер золотые руки и лучший обмотчик электромоторов, которого я знаю.
– Так твой дед энергетик?
– Всю жизнь с электричеством дело имеет. Даже одно время был директором электростанции в Сибири. Думаю, вы с ним ровесники.
– Как его зовут?
– Ермолов Алексей Степанович. Он десятого года рождения.
– Действительно ровесник… Нет, – он покачал головой. – Не припомню такого. Но при случае передай ему мою благодарность.
– Обязательно. Может ещё и на работу его возьмёте, – ухватил я быка за рога.
– Хм. Может, и возьму. Где он сейчас?
– В Краснодарском крае, на пенсии. Пришлось уехать из Алмалыка из-за всех этих дел, связанных с гравигенератором.