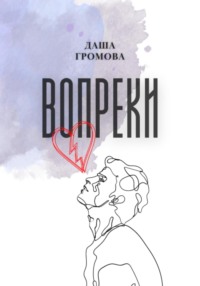Полная версия
Имя вне контекста

Даша Громова
Имя вне контекста
ВВЕДЕНИЕ
Имена собственные сопровождают человечество на протяжении всей его истории, пронизывая культуру, язык и социальные взаимодействия. С момента зарождения первых форм коммуникации онимы – будь то имена людей, божеств, географических объектов или мифологических существ – стали неотъемлемой частью передачи знаний, верований и идентичности. Археологические находки, относящиеся к эпохе палеолита, свидетельствуют о том, что уже в древнейших сообществах существовала потребность в обозначении значимых объектов и явлений. Возникновение абстрактного мышления, которое принято связывать с когнитивной революцией около 70 тысяч лет назад, позволило не только фиксировать реальность, но и создавать сложные нарративы: мифы, легенды, позже – литературные произведения. В этих нарративах онимы выполняли роль не просто маркеров идентичности, но и инструментов, формирующих смысловые связи между персонажами, событиями и культурными контекстами.
Литература, как одно из высших проявлений языкового творчества, превратила онимы в мощный художественный приём. Авторы разных эпох использовали «говорящие» имена и фамилии, чтобы подчеркнуть черты персонажей, задать тон повествованию или даже скрыть в них иронию, аллюзии или социальную критику. Например, в античных мифах имена богов отражали их сущность и сферы влияния: Зевс – «сияющий», Афина – «мудрая воительница». В более поздние периоды, например, в комедиях Мольера или сатирических пьесах русских классиков, онимы становились зеркалом человеческих пороков, добродетелей или абсурдности социальных норм. Этот приём не утратил актуальности и в современной литературе: имена героев продолжают служить ключом к пониманию авторского замысла, а их перевод или адаптация порождают вопросы сохранения исходного смысла.
Данная книга посвящена исследованию роли «говорящих» имён и фамилий в художественных текстах. В фокусе анализа – как классические произведения русской литературы, так и работы зарубежных авторов, где онимы становятся неотъемлемой частью поэтики. Например, в пьесах Николая Гоголя или Александра Грибоедова фамилии персонажей часто содержат намёки на их характер или роль в сюжете: Хлестаков из «Ревизора» ассоциируется с хлестанием, пустой болтовнёй, а Молчалин из «Горя от ума» – с молчаливой угодливостью. Подобные приёмы встречаются и в мировой литературе: в цикле о Гарри Поттере Джоан Роулинг имена героев нередко отсылают к латинским корням, мифологическим образам или природным явлениям, создавая многомерный символический пласт.
Однако значение онимов не ограничивается их прямой номинативной функцией. Они способны влиять на восприятие персонажа читателем, формировать ожидания от сюжета или даже становиться инструментом авторской иронии. Например, фамилия Скалозуб в «Горе от ума» не только указывает на грубоватость персонажа, но и отражает его военную прямолинейность, контрастирующую с изощрённой салонной речью других героев. В зарубежной литературе перевод таких имён сталкивается с трудностями: попытки русификации или калькирования могут исказить исходные коннотации, что особенно заметно в случаях, когда имя несёт двойное значение или культурно-специфический подтекст.
Важным аспектом исследования является связь онимов с более широкими культурными и лингвистическими процессами. Например, в работе рассматривается, как исторические изменения языка, миграции народов или взаимодействие культур отражаются в эволюции имён собственных. Анализ этимологии, морфемного состава и контекстуального употребления онимов позволяет проследить, как авторы используют их для создания психологических портретов, передачи эмоций или скрытых намёков. Так, в произведении Дениса Фонвизина «Недоросль» имя Митрофан («являющий мать») не только высмеивает инфантильность героя, но и критикует систему воспитания своего времени.
Особое внимание уделяется проблеме перевода «говорящих» имён в зарубежной литературе. Например, в романах Вальтера Скотта или Шекспира онимы часто содержат отсылки к местному фольклору или историческим реалиям, которые сложно передать на другом языке без потери смысла. В случае с современной литературой, такой как серия о Гарри Поттере, переводчики сталкиваются с необходимостью сохранить игру слов, фонетические особенности или межъязыковые аллюзии, что порождает интересные, но не всегда успешные интерпретации.
Методологическая основа исследования объединяет лингвистический, исторический и литературоведческий подходы. Анализ строится на сопоставлении текстов разных эпох и культур, изучении словарных дефиниций, а также на привлечении трудов классиков филологии о языковой личности или концепция «культурной памяти», которые помогают раскрыть, как онимы становятся носителями коллективных смыслов.
Дополнительно теоретической и методологической основой выступили труды Косвен М. О., Аванесова Р. И., Сидорова В. Н., Караулова Ю. Н., Лотмана Ю. М., толковые словари В. И. Даля и Д. Н. Ушакова, труды исторические и лингвистические американских учёных Harari Y. N., Minsky M., Joyce W. и филологические труды финского университета «University of Tampere» а также художественные тексты Н. В. Гоголя, А. С. Грибоедова, Д. Фонвизина, Ж. Б. Мольера, Дж. К. Роулинг, В. Скотта и В. Шекспира.
Для реализации задач применены следующие методы исследования: лингвокогнитивный анализ литературы; сравнение; аналогия; рассмотрение художественного концепта как единицы индивидуально-авторской концептосферы.
Книга структурирована таким образом, чтобы постепенно раскрыть многогранность феномена «говорящих» имён. Первая часть посвящена историческому экскурсу: от первых свидетельств использования онимов в древности до их роли в формировании мифологических и литературных нарративов. Вторая часть фокусируется на русской классике, где анализ имён персонажей становится ключом к пониманию сатиры, социальной критики или психологизма произведений. Третья часть обращается к зарубежной литературе, исследуя как оригинальные приёмы создания онимов, так и challenges их адаптации в иноязычной среде.
Книга адресована не только специалистам в области лингвистики и литературоведения, но и широкому кругу читателей, интересующихся тем, как скрытые смыслы в именах героев обогащают наше понимание художественных произведений. Через анализ конкретных примеров – от античных мифов до современных бестселлеров – демонстрируется, что за каждым именем может стоять целая вселенная смыслов, ожидающих расшифровки.
ГЛАВА 1. ОНИМЫ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Неандерталец (лат. Homo neanderthalensis или Homo sapiens neanderthalensis), – вымерший или ассимилированный представитель рода людей. Некоторые учёные считают неандертальца подвидом Homo sapiens, другие – отдельным видом рода Homo, поэтому до сих пор сохраняются оба латинских названия. Возраст останков наиболее ранних неандертальцев (пра-неандертальцев) – около 500 тыс. лет, окончательно сформировались, как вид, около 130—150 тыс. лет назад, последние неандертальцы жили около 40 тысяч лет назад, сосуществовали в Европе с Homo sapiens в течение нескольких тысяч лет[29].
Homo Sapiens NeanderthalensisСпоры о предках человека до сих пор ведутся очень активно. Кто-то сторонник теории панспермии, кто-то апологет креационизма, а кто-то приверженец Дарвинизма. Но все, ведущие споры, сходятся в одном: эволюция жизни на Земле заставила нас оказаться в текущей точки развития цивилизации и планеты.
В настоящий момент каждый человек имеет как минимум смартфон, компьютер и знание нескольких языков, в отличие от неандертальцев и кроманьонцев, чей бытовой арсенал ограничивался орудиями из камня и кости и парой-тройкой шкур животных для тепла. А также, каждый из нас обладает навыками публичной и межличностной коммуникации, что ещё около 500 тысяч лет назад для палеоантропа было едва возможным.
По мнениям некоторых учёных, неандертальцы не обладали ни вербальным, ни жестовым языком, используя для коммуникации только сигналы музыкальной природы. Обратим внимание, что современному человеку достаточно трудно представить отсутствие социальной коммуникации.
Когнитивная революцияДля внесения ясности содержания данного параграфа стоит отметить, что рассматриваемая когнитивная революция произошла в эпоху среднего палеолита, а именно, между 70 тыс. и 30 тыс. лет назад, когда у вида Homo в результате эволюции развилось не только воображение, но и способность думать и общаться.
Когнитивный (от лат. cognitio – восприятие, познание) – это определённый процесс в человеческом сознании, когда происходит первичная, а затем и полноценный процесс получаемой информации. Когнитивный процесс семантически восходит к когниции. Когниция (от лат. correlati – знание) – это получаемое для обработки сознанием знание или «предзнание», преобразующееся при ментальных репрезентациях в синонимичное ему значение «познание».
Среди ученых, занимающихся этой проблемой, нет единой точки зрения, что спровоцировало эту когнитивную революцию. Однако, благодаря ей вид Homo сделал небывалый шаг в перёд в своём развитии. В то время Homo sapiens neanderthalensis вытеснялись видом Homo sapiens, который в свою очередь обладали определённой мутацией генов, позволяющей им приобрести навык общения, используя словесный язык. Однако, одна из существующих теорий, получившая широкий отклик исследователей, коренным образом отличается от мнения о генной и нейронной мутации. Это теория сплетен и мифов[34].
Ссылаясь на данную теорию, Ю. Н. Харари полагает, что именно так Homo sapiens развили навыки социального общения, а также приобрели вербальный интеллект и обучились невербальным сигналам тела. Однако, наше внимание в этой теории привлекает то, какой пласт информации начал обрабатываться видом Homo sapiens в качестве социальной коммуникации. Homo sapiens обсуждали не только соплеменников, но и передавали информацию о врагах, пропитании, строили гипотезы, а с развитием ритуалов и культов Homo sapiens начали формировать и мифотворческую сферу.
Почему данный факт нас так привлекает? Как известно, вид Homo sapiens единственный, обладающий способностью саморефлексии и построению не только предположений, но и ещё их опровержению. Отсюда, возникает разительный интерес в способности Homo sapiens вести диалог не только о реально существующих вещах и доказанных фактах, но и умение уговаривать, придумывать и сочинять. Данная способность сподвигла вид Homo sapiens к большей нейронной эволюции, влекущей за собой и когнитивную революцию вида.
Почему когнитивная революция так важна? Исходя из вышеизложенного, когнитивная революция помогла виду Homo sapiens не только думать и общаться, но и развить воображение, что повлекло за собой целый набор таких функций языка как: коммуникативная; когнитивная; аккумулятивная. А также, опираясь на теорию коммуникативного акта Р. О. Якобсона[28]: референтной; регулятивной; эмотивной; контактоустанавливающей; метаязыковой; эстетической и номинативной функции языка. Парадокс лишь в том, что для установления этих постулатов потребуются сотни тысяч лет, в отличие от их отражения и влияния в языке.
Так как Homo sapiens – социальный вид, то когнитивная революция повлекла за собой первых лидеров не только мнений, но и проповедников, а также сказителей и учителей. Интересен тот факт, что вид Homo sapiens остаётся единственным животным, способным не только обсуждать легенды, мифы и сказки, но и быть их автором.
Появление абстрактного языка в эпоху среднего палеолитаНесмотря на то, что проблема возникновения языка считается одной из самых загадочных и неразрешённых, а такими учёными как Ф. Энгельс, Л. С. Выготский, А. Р. Лурия, А. Н. Леонтьев и другими выдвигались равноценные гипотезы глоттогенеза, – наша задача состоит лишь в прояснении понимания дефиниции «абстрактный язык» в контексте среднего палеолита для отражения исторического фона.
Благодаря воображению, у вида Homo sapiens в эпоху среднего палеолита (70 тыс. лет назад) начинает развиваться абстрактный язык. Не будем отрицать, что тождества язык и мышление не образуют, несмотря на диалектическое единство. Однако, также не будем отрицать о вербальном и невербальном мышлении, высокоразвитые формы есть у Homo sapiens.
Благодаря абстрактному языку, племена Homo sapiens в эпоху среднего палеолита начинали кооперироваться не только внутри племени, но и на основании абстрактной идеи или мысли. Пример тому мифология и легенды, существующие и заложенные предками в сознании. Древние государства, племена и общины строились на национальном мифе. Верующие, до установления главенствующих конфессий и после, скооперированы на общей идеи почитания святых, богов или духов. Творцы и почитатели объединены общим эстетическим мифом.
Всё это было бы невозможно без абстрактного языка и воображения, породившего эти мифы, так как как писалось выше: в первую очередь, сам миф заложен в сознании и абстрактен, то есть, мы не можем прикоснуться к той или иной легенде и почувствовать её физическую реальность, потому что в первую очередь это пересказ от человека к человек, основывающийся на созидательной, коммуникативной, когнитивной, аккумулятивной, контактоустанавливающей и номинативной функциях.
С эпохи неолита возникают сложные религиозные культы. Религиозные убеждения в этот период обычно состояли в поклонении Небесной матери, Небесному отцу, Солнцу и Луне как божествам[12]. Здесь мы можем поставить отправную точку в истории онимов. И именно с эпохи неолита появляются первые сказители и археологически подтверждённые записи мифов. Самым древним из таких находок считается миф о Будж Бим, найденный в 1940-х годах в Австралии. По данных археологов, миф может отражать события, произошедшие 37 тыс. лет назад.
Легенды и мифыМы полагаем, что не подлежит сомнению тот факт, что эпоха неолита принесла нам не только важные сведения об эволюции вида Homo sapiens, но также сохранило немало культурного наследия. Так огромное влияние не только на литературу, но и на культуру в целом, оказала древнегреческая мифология, начало которой датируется 2 тыс. лет до нашей эры. Именно 2 тыс. лет назад эпоха неолита встретила свой закат, а история перешла в бронзовый век, распространив не только металлургию и закрепив вид Homo sapiens, как главенствующий, но и сохранив первые письменные источники в передней Азии и на островах Эгейского моря[12]. Карл Маркс в своей работе «К критике политической экономии» отмечал, что: «греческая мифология составляла не только арсенал греческого искусства, но и его почву».
Нам кажется правильным и уместным отметить несколько важнейших и крупнейших аллегорических источников мифов, возникших накануне эпохи эллинизма.
«Илиада» с древнегреческого переводится как «поэма об Илионе», т. е. о Трое, т. к. Илион её второе название. Также, поэма получила буквальный перевод, как «Троянская поэма».
Особые споры у исследователей вызывала реальность Троянской войны. Часть учёных сходилась во мнении, что Троянская война всего лишь вымысел или хорошо проработанная компиляция Гомера. Однако археологические раскопки Г. Шлимана в 1878-1879 годах в Трое подтвердили подлинность событий, дешифровав хеттские надписи под многовековыми наслоениями холма Гис-сарлык, открывшие ряд имён, доныне известных лишь из текста поэмы. Так, одно из имён принадлежала Агамемнону – царю Микен, предводителю греков.
Поэма «Одиссея» получила название в честь главного героя – Одиссея, чьё имя с древнегреческого переводится как «разъярённый». Это классическая поэма Гомера, после «Илиады», написанная гекзаметром.
«Теогония» с древнегреческого буквально переводится как «происхождение богов», но это в совокупность верований о происхождении богов или, нам представляется возможным использовать термин «монотеизм» в совокупности с дефиницией теогонии.
Важно отметить, что «Теогония» Гесиода – это первая дошедшая до современного времени древнегреческая мифическая космогония. Также, известно, что письменная форма поэмы возникла лишь в 6 веке до н.э., спустя век после смерти Гесиода. «Теогония» оказала влияние на европейскую литературу, сделав Гесиода её первым автором. Однако, «Теогония» больше представляет собой некую компиляцию Всемирной истории, воссозданной Гесиодом в попытке обхватить время рождения богов, человека и показать его место в мире и смысл его жизни.
«Метаморфозы» с латинского переводится как «превращение». Поэма Овидия о превращениях людей в животных, растения, созвездия и проч. Историческая последовательность греческого и римского фольклора создаёт антураж последовательного рассказа Всемирной истории вплоть до времени Юлия Цезаря. Примечательно, что сотворение мира рассматривается также, как метаморфоза.
Но какова же роль онима в вышеизложенном?
ОнимКак следует из вышенаписанного, ещё с эпохи неолита и начала Бронзового века люди начали давать имена не только занимаемым землям, отпрыскам, предметам материальной культуры и животным, но появились и теонимы и имена героев эпоса. Имя, в контексте данного исследования, будет рассматриваться как имя собственное, т. е. от древнегреческого ὄνυμα – оним: название. Но контекст для анализа будет областью частной онимии для отражения прецедентных онимов в литературных произведениях.
Для раскрытия полного значения «онима», нам видится правильным дать определение не только самому термину, но и ономастике, онимизации и апеллятивации.
Оним – слово, словосочетание или предложение, которое служит для выделения именуемого им объекта среди других объектов, его индивидуализации и идентификации[13].
Примером для дефиниции «оним» может служить любое имя собственное, которое появлялось в тексте данного исследования выше, так, например «Одиссея» или Гесиод, Небесный отец или Троя. Однако, оним не ограничивается только литературным или географическим контекстом. Сфера употребления онима, как языковой единицы, устанавливается в результате ономастического исследования и составления ономастического атласа, об этом речь пойдёт ниже в параграфе «Оним как языковая единица».
Ономастика – раздел языкознания, изучающий любые собственные имена, историю их возникновения и трансформации в результате длительного употребления в языке-источнике или в связи с заимствованием из других языков. В более узком значении ономастика – это собственные имена различных типов, совокупность ономастических слов, – ономастическая лексика[14].
Синонимами ономастике могут служить: ономатология, ономасиология и ономатика, – представляющие собой разделы языкознания, изучающие значение и образования онимов.
Направления ономастики покрывают большой пласт языка, включая в себя: антропонимику, астронимику, зоонимику, каронимику, космонимику, хрематонимику, прагматонимику, теонимику, топонимику, эргонимику, этнонимику, соционимику. В контексте данного исследования нам особенно интересны:
1) Антропонимика – направление ономастики, исследующее собственные имена людей (например: Чарли Пламмер, Алексей Громов, Иван Сусанин и проч.).
2) Теонимика – направление ономастики, исследующее собственные имена богов любого пантеона. Выше уже были рассмотрены примеры теонимики в контексте древнегреческой литературы.
Онимизация – переход имени нарицательного в имя собственное и его дальнейшее становление и развитие в любом разряде онимов[13]. Чаще всего данному переходу подвергаются собственные имена людей, например: любовь → личное имя Любовь → фамилия Любимов, но также бывают переходы такие, как: красный → имя прилагательное → Красная армия, Красное знамя.
Апеллятивация – переход онимов в имена нарицательные (апеллятивы). Речь об апеллятивации будет в параграфе «Оним как троп».
Оним как языковая единицаЯзыковая единица – элемент системы языка, неразложимый в рамках определённого уровня членения текста и противопоставленный другим единицам в подсистеме языка, соответствующей этому уровню. Может быть разложима на единицы низшего уровня[15].
Исходя из определения, мы можем выделить простые и сложные единицы. К простым относятся: морфема как значимая единица, фонема, – они, соответственно, не делимы. К сложным: слово, СФ, словосочетание, предложение. Так как оним – это материальная двусторонняя единица, имеющая звуковую оболочку и являющаяся словом, то мы можем считать оним (сложной) языковой единицей, входящей в состав предложения/словосочетания/фразеологической единицы.
Совокупностью онимов, как я.е., является онимия, которая делится на частную и общую. Частная онимия представляет для нас интерес, так как имеет влияние только в (частном) контексте определённого языка, произведения, территориального или временного периода, и проч. Общая же онимия представляет собой совокупность онимов вне частного контекста. По этому же принципу выделяют частную и общую вехи ономастических атласов.
Для примера мы выбрали «Славянский ономастический атлас» (СОА)[33]. Целью СОА было отражение отслеживание развития славянских онимов в славянских языках, а также попытка представить группой исследовательского проекта праславянского ономастического наследия в типологическом отношении, несущим важность не только для славянской лингвистики, но и для археологии, истории и географии в выбранном историческом контексте. В СОА представлены гидронимы, астионимы и комонимы, а также Вальтером Венцелем уделено большое внимание проблеме славянской антропонимики.
Оним как тропТроп (от др.-греч. τρόπος «оборот») – стилистическая фигура, слово или выражение, используемое в переносном значении с целью усилить образность языка, художественную выразительность речи[16].
Выше нами уже было отмечено явление онимии, однако, нам кажется нужным продолжить раскрытие дефиниции частной онимии, приведя контекстуальные примеры, а также объяснить подробнее значение апеллятивации.
Частная онимия представляет для нас интерес, так как имеет влияние только в (частном) контексте определённого языка, произведения, территориального или временного периода, и проч. Разберём частную онимию в контексте лирики Сергея Александровича Есенина «Анна Снегина»[5].
В тексте поэмы отражены антропонимы: «Керенский на белом коне»; ««Голубчик! Да ты ли?//Сергуха!»; ««Ну что же, вставай, Сергуша!»; «К помещице Снегиной»; «У них там есть Прон Оглоблин»; «А дочь их замужняя Анна»; «Сергей!»; «Зачем ты позвал меня, Проша?»; «Убили Борю…»; «Ленин – старшой комиссар»; «У Прона был брат Лабутя».
Агнонимы: «гумно»; «калифствовал»; «сермяжную»; «мортир»; «дупелей»; «денница»; «в дышло»; «устроил волынку»; «мосластая шкеть»; «дебелая»; «голубарь»; «разор»;«прижваривай»; «зыкь».
Комонимы: «Село, значит, наше – Радово»; «С соседней деревни Криуши//Косились на нас мужики».
Катойконимы: «То радовцев бьют криушане,//То радовцы бьют криушан».
Можно нам возразить, что данные антропонимы в большей массе довольно распространённые, однако, наш аргумент в счёт частной онимии такой, что нет больше другой Анны Снегиной в литературе, как у Есенина, нет и другого Прона Оглоблина. А насчёт комономов, можно углубиться в полноценное исследование антагонистов в виде этих двух сёл для поэта.
Обратим внимание на то, что село Радово, исходя из частного контекста поэмы, – благополучное и процветающее, а деревня Криуши – нищая и загнивающая. Однако, поэт смягчает образ Криуши, потому что там прошла его юность и первая любовь (Анна Снегина), а потому для него соседнее село такой же апологет добра, как и Радово. Однако, если мы рассмотрим реальный географический контекст, то Радово и Криуши – это не сёла одной стороны и не «соседняя деревня» исходя из текста поэмы: они разделены не только сотнями километров, но и рекой. Важно отметить, что река, как известно, в литературном контексте – знак некой границы, за чертой которой таится что-то неизведанное.
Так, частный контекст онимии поэмы «Анна Снегина» включает в себя: антропонимы, агнонимы, комонимы и катойконимы.
Теперь перейдём к апеллятивации имён собственных. Апеллятивация также относится к частной онимии в контексте прецедентных текстов (литературных произведений), когда происходит переход имени собственного в имя нарицательное.
Прецедентный текст – это, в первую очередь, текст, имеющие и играющий значимую роль в познавательных и эмоциональных отношениях, как для отдельного субъекта, так и для общества. Во-вторых, п.т. имеют сверхличностный характер, т. е. с ними были ознакомлены, как и современники, так и предшественники, и, что скорее всего, будут ознакомлены в будущем. В-третьих, п.т. перманентно популярен и является предметом для дискуссий. Классическое литературное произведение, будь то роман, сага, поэма, стихотворение или сказка, – отвечает критериям выдвинутым Ю. Н. Карауловым[7]. Также, мы можем разобрать прецедентное имя, которое будет отвечать тем же трём параметрам, что и п.т, а именно: п.и. связано с известным прецедентным текстом (например: Анна Снегина, Гарри Поттер, Обломов), носитель языка хорошо знаком с ситуацией, как п.т., так и п.и. (Остап Бендер, Фамусов), а также, п.и. выступает именем-символом (Плюшкин, Мюнхгаузен).