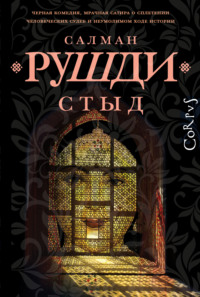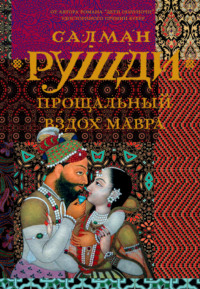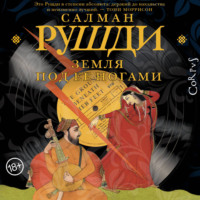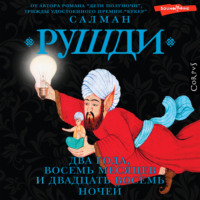Полная версия
Нож. Размышления после покушения на убийство
Я написал первый абзац: “Генри Уайт был белым и счастливым. Долгое время про него можно было сказать только это. Все окружавшие его люди испытывали несчастья, о которых можно было рассказывать, а он был доволен жизнью и потому оставался своего рода белым пятном. Никто не знал, что с ним делать. Он был белым и счастливым с того самого дня, когда появился на свет. Однако сам он не думал о том, что он белый, ведь белый – цвет кожи людей, считающих, что думать о том, какой у них цвет кожи, неважно, ведь они просто люди; цвет – это то, о чем думают другие люди, которые не просто люди. Счастье было природой Генри, природой человека, которого никогда не подводило счастье и который думал о себе как о человеке, приговоренном иметь его, о чем было сказано в Декларации задолго до его рождения. Рядом с семейным почтовым ящиком на своей лужайке в Новой Англии, немного в стороне от дома, принадлежавшего стоматологу, на фасаде которого красовалась табличка «Зубная боль», он установил свою собственную деревянную табличку. Надпись на ней гласила: «Счастливый дом»”. (Сноска: моя тетушка Баджи жила в доме, который тоже назывался “Счастливым домом”, он располагался в Карачи, Пакистан, на Дипчанд-Оджха-роуд, и было это миллион лет назад.)
На этом месте я остановился. Быть может, я допишу этот рассказ, а быть может, и нет. Я много думал о Генри, о Генри Берримене и о своем.
Однажды на платане я был счастлив,Я был на самой верхушке и пел,– говорит нам Берримен в самой первой “Песне сновидений”. А чуть позднее появляется и Индия-Генри:
И Генри был счастлив, рядом с ней в потрясенииРядом с собой, со своими возможностями;Он слал свой “салам” начинающемуся рассвету,И прокаженные сквозь дождь слали свой “салам” ему.Я хотел совершить с Генри ужасные вещи в своем “Кандиде” – хотел, чтобы у него умерли родители, чтобы он утратил свою удачу, чтобы его прекрасная Кунегунда бросила его, а после заболела сифилисом и потеряла все зубы. Я хотел, чтобы его почти убило во время землетрясения в Лиссабоне, чтобы прокаженные ограбили его и потешались над его страданьями. Я хотел, чтобы он был уничтожен тем же оружием, что дала ему его белая кожа, чтобы он стал смотреть на мир глазами небелого, сделался Генри не-Уайтом. Если после всего этого он остался счастливым и продолжил взращивать свой сад, тогда его счастье, а быть может, и все счастье как таковое, есть блаженное безумие. Морок. Наш мир ужасен, так что счастье – это ложь. Быть может, в конце будет то же, что у Берримена, – мост, чтобы с него спрыгнуть и чтобы все было кончено.
По крайней мере такое счастье-безумие не должно писать белым по белому.
Я так и не дописал этот рассказ. Он до сих пор живет где‑то в скрытой части моего мозга.
Думаю, я прекратил писать его потому, что что‑то совершенно невозможное произошло со мной благодаря нашей счастливой встрече с Элизой: я стал счастливым. Счастье сделалось теперь и моей собственной историей, а не только историей моего героя, и оно совсем не писало белым по белому. Оно пьянило.
Я был счастлив – мы были счастливы – на протяжении пяти с лишним лет. А потом одна из тех катастроф, которые я хотел наслать на моего Генри, обрушилась на меня самого. Сможет ли наше счастье выдержать подобный удар? И если да, не будет ли оно мороком, попыткой отвести взгляд от ужаса этого мира, который нож сделал столь очевидным? Что может значить быть счастливыми, переживая последствия покушения на убийство? Что может значить – и как может отразиться на нас – перестать быть счастливыми?
12 августа 2022 года эти вопросы показались бы мне абсурдными, реши я поразмыслить над ними. В тот день казалось, что никакая часть меня не уцелеет.
Она была красива, но ее отношения с красотой, как она рассказывала, всегда были сложными. Она любила Рильке, который считал, что “с красоты начинается ужас. Выдержать это начало еще мы способны; мы красотой восхищаемся, ибо она погнушалась уничтожить нас”.[7]
Она состояла из красоты и ужаса в равной пропорции. Я заказал все книги ее стихов, прочитал их и понял, что ее дар, ее природа, ее присутствие в мире уникальны. Она написала:
Я – женщина вне закона,Танцующая танец теней. Моя жизнь слишкомстремительна, чтобы образовывались синяки. Вот такНазывают коллекционеров прекрасного.Я чувствовал себя Али-Бабой, узнавшим волшебные слова, открывающие вход в пещеру с сокровищами – Сезам, откройся, – а в ней – от блеска слепило глаза – нашедшим сокровище, и этим сокровищем была она.
Мне очень повезло, что я тоже ей приглянулся. Через несколько лет отец спросил у нее, как мы полюбили друг друга, и она сказала, что вскоре после знакомства мы вместе ужинали в ресторане и она поняла, что все, чего она хочет, – это провести оставшуюся жизнь с этим мужчиной. Так что каждый из нас получал и давал любовь. Самый прекрасный обмен дарами.
События развивались быстро. Наши жизни слишком стремительны, чтобы образовывались синяки. Прошло всего несколько недель, и мы уже жили вместе, несмотря на то что у нас обоих на самом деле синяки были. (Если говорить исключительно обо мне, у меня остались боевые шрамы от моего изменчивого романтического прошлого.) Наши друзья призывали нас быть осторожнее. Ее друзья, начитавшись недобрых и неправдивых слов обо мне в прессе, предостерегали ее на мой счет. Мои, видевшие, как часто и глубоко я бывал ранен в прошлом, встревоженно интересовались: Ты уверен? Возможно, мир неизбежно становится на этот путь, когда новорожденная любовь – не первая, не юная, не невинная, а следующая за горьким опытом. Будьте осторожны, предупреждал нас мир. Не получите новых ударов.
Но мы двигались дальше, лодчонки против течения. Что‑то очень сильное пришло в наши жизни, и мы оба это знали. Со временем она познакомилась с моими друзьями, а я с ее, и предостережения больше не звучали. Недель через шесть после моего столкновения со стеклянной дверью мы отправились в центр, в китайский ресторан в Трайбеке, с женщиной, которая была ее самой близкой подругой, поэтессой Камилой Аишей Мун, автором двух высоко оцененных поэтических сборников – “Свет луны и грязь” и “У нее нет имени”. Аиша, еще одна среди тех, кто предпочитает свое второе имя, была старше и печальнее Элизы (она звала ее Рэйчел), но они были близки, словно сестры. Мы с ней довольно мило передразнивали друг друга, и вечер получился приятным и наполненным смехом. А когда Элиза ушла в уборную, Аиша тут же подалась вперед, чтобы заглянуть мне в глаза и сказать невероятно серьезно: “Ты уж веди себя с ней как следует”.
Мир поэтов, начал я открывать для себя, гораздо более замкнут, чем мир прозаиков. Поэты, казалось, все друг друга знают, читают друг друга, тусуются вместе, постоянно совместно проводят чтения и прочие мероприятия. Поэты звонят друг другу поздно ночью и сплетничают до зари. Прозаику, годами просиживающему в комнате в одиночестве и лишь изредка поднимающему голову посмотреть поверх перил, поэты кажутся удивительно склонными сбиваться в стаи, они напоминают традиционную семью или общину. А внутри большой поэтической общины круг Черных поэтов оказывается еще более тесным и склонным к взаимовыручке. Как много они друг о друге знают! Как интересуются творчеством друг друга, как сильно переплетены их жизни! Очевидно, что в поэзии речь идет о меньших деньгах, чем в прозе (если ты не Майя Энджелоу, Аманда Горман или Рупи Каур), и похоже, что экономическая “узость” этого мира рождает более глубокие связи между людьми. Такому можно позавидовать.
Пересечение границы Поэтляндии и Прозавилля часто предполагает путешествие через Воспомистан. Мемуары на сегодняшний день стали важным жанром в искусстве, они позволяют нам пересмотреть свое восприятие настоящего сквозь призму личного жизненного опыта, нашего уникального прошлого, воспоминаний. (Одним из последних примеров может служить “Как сказать «Вавилон»” Сафии Синклер – мощные, написанные богатым языком воспоминания о взрослении на Ямайке и необходимости оторваться от склонного к тирании отца-растафарианца.)
Элиза была другой. Она всегда хотела писать романы, рассказала она мне, – когда она начала грезить о том, чтобы стать писательницей, именно это было ее мечтой. Она писала прозу всю свою жизнь, на самом деле начала раньше, чем стала сочинять стихи; однако теперь, когда она была автором пяти поэтических сборников – четыре из них увидели свет до нашей встречи, пятый, “Рассматривая тело”, был в процессе публикации, – пришло ее время прозаика.
Я быстро понял, что ее высоко ценят товарищи-поэты. Однако я отчасти разделял и расхожее мнение о том, что лишь немногим поэтам удалось успешно перейти в мир прозы. (Мне известен и непреложный факт, что очень, очень немногие прозаики способны перейти в мир поэзии. За свою жизнь я опубликовал одно стихотворение, и совершенно незачем говорить о нем что‑либо еще.) Так что, когда Элиза сказала мне, что закончила черновой вариант своего дебютного романа, я – скажем так – начал нервничать.
Она нервничала тоже и какое‑то время не хотела давать мне прочитать черновик. Мы оба знали, что практически невозможно двум писателям жить вместе, если им не нравится творчество друг друга, – и под “нравится” я подразумеваю здесь “по‑настоящему нравится, до влюбленности”. Но в конце концов она дала мне текст, и, к своему облегчению, я смог искренне сказать, что нахожусь под впечатлением. Вскоре после этого я узнал, что она известна также как уникальный фотограф и прекрасная танцовщица, что крабовые кексы, которые она готовит, стали легендой и что она также поет. Никто и никогда не хотел слушать, как я пою, или смотреть, как я танцую, или попробовать мои крабовые кексы. Будучи человеком, который умеет делать всего лишь одно дело, я был потрясен многогранностью ее талантов. Мне стало ясно, что наши отношения не были отношениями равных, а скорее отношениями, где я не дотягивал. И даже лучше: это были отношения, строящиеся не на конкуренции, а на всемерной взаимной поддержке.
Счастье.
Существует разновидность глубокого счастья, которая предпочитает приватность, оно расцветает вдали от людских глаз и не ищет оценки со стороны: счастье, предназначенное исключительно для тех, кто его испытывает, и этого, самого по себе, достаточно. Я чувствовал себя больным от того, что мою личную жизнь препарируют и рассматривают чужие люди, что я связан злобой их длинных языков. Элиза была и есть очень закрытый человек, и больше всего она опасалась, что из‑за меня ей придется отказаться от свойственной ей приватности и купаться в кислотном свете публичности. Я слишком долго жил в этом ярком свете без тени и также не хотел для нее такой участи. Я и для себя ее не хотел.
Что‑то странное случилось с самой идеей приватности в наше сюрреалистичное время. Многие люди на Западе, в особенности молодые, перестали ею дорожить, наоборот, приватность стала чем‑то обесцененным и на самом деле нежеланным. Того, что не представлено публично, попросту не существует. Ваша собака, ваша свадьба, ваш отдых на пляже, ваш ужин, интересный мем, который вы только что нашли, – всеми этими вещами необходимо ежедневно делиться.
В Индии приватность остается роскошью богачей. Бедняки, ютящиеся в тесных, перенаселенных пространствах, никогда не бывают одни. Многие обездоленные индийцы вынуждены совершать одну из самых интимных функций, свои естественные телесные отправления, на улице. Тот же, у кого есть собственная комната, должен быть при деньгах. (Не думаю, что Вирджиния Вулф когда‑то бывала в Индии, но ее афоризм остается актуален – даже там, даже для мужчин.)
Дефицит рождает спрос, и для большей части населения Земли собственная комната – в особенности для женщин – до сих пор остается предметом мечтаний. Однако на жадном Западе, где внимание сделалось чем‑то самым желанным, где погоня за подписчиками и лайками сделалась неуемной, приватность стала ненужной, нежеланной, даже абсурдной.
Элиза и я, мы выбрали быть людьми приватными.
Это не означает, что мы держали наши отношения в секрете. О них знали мои родственники и ее тоже. Знали мои друзья и ее знали. Мы вместе выходили ужинать, ходили в театры, болели на стадионе за “Янки”, посещали художественные галереи, отплясывали на рок-концертах. Вели, короче говоря, обычную для ньюйоркцев жизнь. Но мы сторонились социальных медиа. Я не “лайкал” ее, она не “лайкала” меня. В результате чего на пять лет, три месяца и одиннадцать дней мы полностью исчезли с радаров.
Мы доказали, как мне кажется, что даже в эту эпоху зависимости от внимания два человека все еще могут вести, при том довольно открыто, счастливую приватную жизнь.
А потом появился нож, разрезавший эту жизнь на куски.
Когда мне было 20 лет и я учился в Кингс-колледже, Кембридж, прославленный антрополог Эдмунд Лич был провостом этого колледжа (“провостом” на языке Кингса именовался президент). В тот год, 1967‑й, в год легендарного “Лета любви”, Хейт – Эшбери и цветов в волосах, знаменитые лекции Рейта на радио BBC читал Лич. Его выступления сделались притчей во языцех благодаря одной фразе. Вот она: “Семья, с ее ограниченной приватностью и пошлыми секретиками, является источником всех наших неудовлетворенностей”.
1967‑й не был удачным для идеи семьи годом, поскольку молодое поколение – мое поколение – либо включилось, настроилось и выпало, как рекомендовал Тимоти Лири, либо – не в Британии, но в Америке – было поставлено под ружье и отправлено во Вьетнам под музыку Country Joe and the Fish “Я чувствую, что готов умереть” (“Станьте первыми в своем квартале, чей сын приедет домой в гробу”). К ужасу консерваторов по обе стороны океана семьи разрушались в результате политических протестов, совместного приема психоделических наркотиков, так называемой “контркультуры”, так что лекция Эдмунда Лича, прочитанная в самом сердце британского истеблишмента, показалась некоторым бунтарским шагом, призывом к революции.
Что касается меня, я не находил общего языка со своим отцом, который, помимо прочего, сделался склонным к агрессии пьяницей. Мы с сестрами знали о его ночных приступах ярости, однако наша мама сделала все, чтобы оградить нас от них. Мы знали, что вечерами следует держаться от него подальше. Знали, что, если у отца красные глаза, лучше за завтраком помалкивать. Но мы очень редко – считаные разы – испытывали всю мощь его гнева, порожденного виски. Когда в январе 1961 года мы с ним прилетели в Англию, где я должен был учиться в школе-интернате, мы провели вместе несколько дней в Лондоне перед началом семестра. Мы жили в одном гостиничном номере, и я скоро понял, что виски “Джонни Уокер” будет также проживать вместе с нами.
Эти холодные январские ночи в отеле “Кумберленд” меня сильно травмировали. Мне предстояло просыпаться от того, что отец ранним утром трясет меня, когда они с “Джонни” дошли до дна бутылки, предстояло выслушивать в свой адрес оскорбления на языке, которого я прежде не слышал, словами, которые, как я полагал раньше, вообще не должны были быть известны моему отцу, не то что произноситься в адрес своего первенца и единственного сына. Все, о чем я мог думать, – как бы удрать от него, и я больше никогда не переставал думать об этом. Когда в 1968 году я окончил Кембридж, он не приехал на выпускную церемонию и не купил ни одного билета на самолет, ни для моей матери, ни для моих сестер, так что я стоял в одиночестве со своим дипломом на лужайке Королевского колледжа, окруженный счастливыми семейными группами, праздновавшими успех моих товарищей.
Источник всех наших неудовлетворенностей, думал я. Да, именно так.
После выпуска я долго не возвращался домой, а решил устраивать свою жизнь в Англии. Еще много лет после этого семейная жизнь – или скорее поиск в ней стабильности – давались мне нелегко. Были браки, разводы. Мой отец умер, и в последнюю неделю его жизни у нас состоялось знаменательное, хотя и слишком короткое, воссоединение. И все же здесь неподходящее место, чтобы сообщать слишком много частных подробностей либо раскрывать пошлые секретики. Я лишь скажу: мы не были бы теми, кто мы есть сейчас, если бы с нами не произошли несчастья нашего прошлого.
К моменту, когда я встретил Элизу, вокруг меня сплотилась маленькая любящая семья: двое моих сыновей, моя сестра, две ее дочери, начало подтягиваться и следующее поколение. Они стали сердцем всей моей жизни, которое лишь окрепло благодаря нестабильности прошлых лет. И все они тут же полюбили Элизу. Их так не воодушевляли одна или две ее предшественницы. (Мой сын Милан принадлежит к тому сорту молодых людей, которые говорят то, что на самом деле думают. “Папа, – сказал он однажды, – у тебя столько потрясающих друзей-женщин, они все восхитительны, с ними тепло, они умеют произвести впечатление, они действительно мне нравятся”. И добавил, выдержав идеальную для комического эффекта паузу: “Так почему же ты встречаешься не с такими женщинами?”)
А когда он и все остальные члены моей семьи познакомились с Элизой, они стали говорить мне: “Наконец‑то”. (Тогда Элиза заказала для меня футболки с надписью НАКОНЕЦ-ТО.)
Когда я познакомился с семьей Элизы – с ее отцом, еще тремя детьми и их половинками, – они как раз переживали последствия тяжелой утраты, смерть матери Элизы, Мишель. Даже тогда это была дружная, любящая семья, они глубоко участвовали в жизнях друг друга, будучи щедро одаренными многими талантами. Элиза была старшей из четверых детей. Ее брат Крис еще до того, как ему исполнилось сорок, сделался партнером в юридической фирме и к тому моменту был первым и единственным чернокожим, который когда‑либо сидел на судейской скамье в Верховном суде Делавэра; брат Адам был талантливым художником и автором графических романов; сестра Мелисса успешно работала в сфере финансов. Их отец Норман, ныне пенсионер, также был юристом и успешным политиком, которого в его родном городе Уилмингтон, штат Делавэр, не раз выбирали на ответственные посты.
Они все тепло приняли меня. Норман признался Элизе, что никогда не видел ее более счастливой и, если причина этого – я, его устраивают наши отношения. Мелисса вторила ему, словно эхо: “Попробуй заметить, как счастливо звучит твой голос, – сказала она Элизе однажды, – вы оба прекрасно друг другу подходите”.
Я понравился ее семье! Она понравилась моей семье! Наше счастье во многом основывалось на силе, которую может дать семья. Я чувствовал, что оставил Эдмунда Лича за спиной. Семья больше не была источником моих разочарований.
Но…
Представлялось ли возможным – было ли это просто приемлемо или этично – говорить о счастье в разгар пандемии? Мы оба заразились и успешно вылечились от вируса COVID-19 в самом начале, в марте 2020 года. Это было непросто. Я болел очень сильно, потом заразилась Элиза, но, даже будучи больной, она продолжала заботиться обо мне. Позже она призналась мне: “Были моменты, когда я думала, что мы не справимся, думала, что, может быть, это конец”. Но мы справились. Каждый вечер люди стучали по кастрюлям и сковородкам, выражая свою признательность медикам, работавшим на передовой. Мы присоединились к ним, чтобы отметить в том числе наше собственное выздоровление.
А потом ангел смерти постучался в каждую дверь. Никто не знал, как победить смертельный вирус. Врачи и медсестры работали сутками и тоже умирали. Больницы стали местами, куда людей привозили умирать. Если тебя подключали к аппарату искусственной вентиляции легких, шансов, что тебя с него снимут и ты будешь жить, почти не оставалось.
22 августа 2022 года я узнал, что значит быть на аппарате искусственной вентиляции легких. Было невозможно – в тот момент – думать о гигантской трагедии, которой стала пандемия, гораздо большей, чем моя собственная.
За время пандемии Элиза потеряла двух своих любимых дядюшек. В нашей семье никто не умер, но безвременно скончался один из моих близких друзей, а еще очень многие были на грани, но выжили. Моя невестка, жена Зафара, Натали, болела очень тяжело и была госпитализирована, и какое‑то время мы боялись, что потеряем ее. Ее выздоровление стало огромным облегчением, но поправлялась она очень долго и медленно. И я не мог поехать в Лондон повидаться с родными, а они не могли приехать ко мне в Нью-Йорк; это длилось два года – эти года казались столетиями.
Миллионы людей умерло, а я здесь распинаюсь о том, что счастлив? Да и помимо пандемии мир находится в состоянии кризиса. Америку раскалывают на две части радикально настроенные правые, в Соединенном Королевстве страшный разброд, Индия стремительно несется к авторитаризму, свободу повсюду атакуют подавшиеся вправо левые и накладывающие запреты на книги консерваторы, сама планета находится в отчаянном положении – беженцы, голод, нехватка воды, война на Украине. Заявлять вот в такой исторический момент: “Я счастлив” – разве это не роскошь? Не намеренная слепота, упрямая и эгоистичная? Не то самое, в чем состоит вина “Генри Уайта”, героя моего неоконченного рассказа, – счастье как форма привилегии, необъяснимая наглость? Не форма побега от реальности в узость солипсизма “возделывать свой сад”? Какое право имеет человек претендовать на подлинное счастье в нашем практически постоянно несчастном мире?
И все же сердце знало то, что знало, и настаивало на своем.
В субботу 1 мая 2021 года мы с Элизой отмечали нашу четвертую годовщину. Так, как могли это сделать в условиях продолжающихся пандемийных ограничений. Мы решили ненадолго поселиться в отеле с видом на парк. Нам повысили категорию забронированного номера до сьюта на 25‑м этаже, так что вид оттуда открывался сказочный. После ужина Элиза смущаясь напомнила мне, что несколько месяцев назад я спросил у нее, какой размер колец она носит. Я хотел знать это в качестве общей информации, уточнила она, или сейчас, по прошествии четырех лет, этот вопрос был задан с какой‑то конкретной целью?
– Подожди минутку, я сейчас вернусь – ответил я, встал и отправился в спальню.
Мой внезапный уход вкупе с бесстрастным выражением лица заставили ее переживать. Не дала ли она маху, размышляла Элиза. А потом я вернулся, протянул ей маленькую фиолетовую коробочку и сообщил ответ на ее вопрос. Это был один из очень немногих моментов, когда мне удалось ее полностью удивить.
Так произошла наша помолвка высоко в небесах над Центральным парком, и в каком бы положении ни пребывал тогда мир, никто бы не мог сказать, что мы не самые счастливые из людей.
– Ты – мой человек, – сказала она.
– Ты – мой человек, – ответил я.
Как сыграть приватную свадьбу в век нулевой приватности: 1. Не делай этого в Нью-Йорке. 2. Сделай это в Уилмингтоне, штат Делавэр, где выросла Элиза и никто не слышал твоего имени. Когда мы пришли получать свидетельство, дама-чиновница вписала в него мое имя, явно услышав его впервые. Мне пришлось диктовать ей его по буквам. 3. Пригласи своих друзей на обед и предупреди: никаких соцсетей.
Вот и все.
Мы поженились в пятницу, 24 сентября 2021 года, об этом знали все наши друзья и родственники, однако это ускользнуло от широкой общественности и оставалось неизвестным для нее на протяжении почти что года, и, наверное, продолжало бы оставаться таковым и по сей день, если бы не нож.
Это был чудесный день. Погода, наши друзья, церемония, радость. Мы объединили две наши традиции – надели друг на друга гирлянды (индийская традиция) и перепрыгнули через веник (афро-американская). Она произнесла адресованную мне речь в стихах – поэтический дар – ее суперсила, – и, чтобы поддержать величие момента, я включил в свои гораздо более прозаические слова, обращенные к ней, стихотворение э.э. каммингса “я ношу твое сердце в себе (твое сердце в моем)”:
я ношу твое сердце в себе (я ношуего внутри своего) я не отпускаю его никогда (всюдукуда я иду идешь со мной ты, дорогая; и все что сделаномною это то что сделала ты, моя любимая)я боюсьне судьбы (ведь моя судьба это ты, моя милая) я хочуне миром владеть (ведь мой мир это твоя красота, моя настоящая)это ты есть все то что вовеки несет нам лунаи все о чем только поет нам солнце тоже тыэто самый страшный секрет о котором не знает никто(это корень всех корней и ствол всех стволови небо всех небес у дерева которое зовется жизнью; оно вырастаетвыше чем может верить душа и разум втайне стремиться)это то чудо что сохраняет все звезды на небея ношу твое сердце в себе (я ношу его внутри своего)Моей семьи не было на свадьбе, поскольку в это время США из‑за коронавируса не допускали на свою территорию иностранцев. Мы взяли на церемонию ноутбук и установили его на подиуме, так что они наблюдали за всем происходящим из Лондона посредством новшества, именуемого Zoom и ставшего столь необходимым. Друзья и члены семьи говорили весело и трогательно. Сестра Элизы по поэтическому цеху Араселис Гирмай зачитала поэтический коллаж из многих стихотворений. После того что Хемингуэй назвал бы изысканным обедом (мы ели с благодарностью, и еда была отличной), мы, то есть Элиза, я и ее семья вместе с фотографом и его ассистентом отправились делать свадебные фотографии в изящный сад Мариан Коффин у подножия огромного здания под названием “Гибралтар”, которое сейчас пустует и ветшает. Через пару дней мы улетели в Лондон, где провели небольшое послесвадебное торжество для моей семьи и друзей по ту сторону океана. Я чувствовал, что моя жизнь получила новое начало.