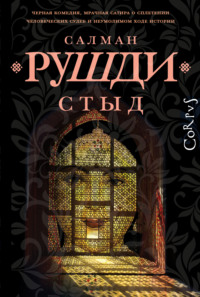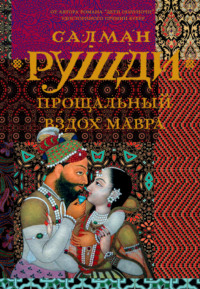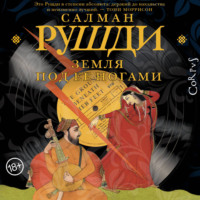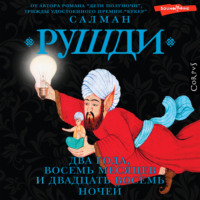Полная версия
Нож. Размышления после покушения на убийство
Лежа на полу, я ни о чем таком не думал. Мой разум занимала мысль, которую было трудно вынести: я умру вдали от тех, кого люблю, окруженный чужими людьми. Я особенно остро ощущал одиночество. Я больше никогда не увижу Элизу. Больше никогда не увижу своих сыновей, свою сестру, ее дочек.
Кто‑нибудь, сообщите им, пытался я сказать. Не знаю, услышал ли меня кто‑то и понял ли. Мой голос звучал где‑то очень далеко от меня, хриплый, сбивчивый, неразборчивый, непонятный.
Я видел смутно, как через стекло. Я слышал, но словно издалека. Было очень шумно. Я понимал, что возле меня собрались люди, они склоняются надо мной и все одновременно что‑то кричат. Над распластанным мной гулкий купол из человеческих существ.Клош, если прибегнуть к кулинарным терминам. Я словно был основным блюдом на тарелке – меня подавали с кровью, saignant, – а они были нужны, чтобы сохранить меня теплым, – были, скажем так, крышкой надо мной.
Я должен сказать о боли, ведь мои собственные воспоминания об этом в корне расходятся с воспоминаниями тех, кто был вокруг, в этой группе было по меньшей мере два врача из публики. Присутствовавшие рядом рассказывали потом журналистам, что явыл от боли и постоянно спрашивал: Что у меня с рукой? Так больно! В моей собственной памяти, странным образом, не осталось воспоминаний о боли. Возможно, шок и потрясение вытеснили из моего сознания ощущения агонии. Я не знаю. Словно оборвалась связь между моей “внешней”, находившейся в мире сущностью, издававшей вой и все прочее, и “внутренней”, находившейся во мне, которая каким‑то образом оказалась отделенной от того, что я ощущал, и находилась, как я теперь думаю, практически в состоянии бреда.
Ред Рeм– английское murder, убийство, произнесенное наоборот. – Ред Рем, лошадь, трижды побеждала в больших национальных скачках с препятствиями – в 1973, 1974, 1977 годах. – Подобная бессвязная чепуха внезапно лезла ко мне в уши. Но я слышал и что‑то из того, что говорили склонившиеся над моей головой.
– Разрежьте ему одежду, чтобы увидеть, где раны, – кричал кто‑то.
О, подумал я, мой красивый костюм от Ральфа Лорена.
Потом появились ножницы – а может, это был нож, на самом деле я этого не знаю, – и с меня сняли одежду; было то, что требовало безотлагательных действий. Было и то, что мне требовалось сказать.
– У меня в кармане кредитки, – бормотал я кому‑то, кто мог бы меня слышать, – в другом кармане ключи от дома.
Я услышал, как мужской голос сказал: Разве это сейчас важно?
А потом другой голос: Конечно. важно, вы что, не знаете, кто это?
По всей вероятности, я умирал, поэтому это действительно было неважно. Никто не ожидал, что мне понадобятся кредитки и ключи от дома.
Но сейчас, когда я оглядываюсь назад и слушаю, как мой едва различимый голос настойчиво говорит об этих вещах, вещах из моей нормальной повседневной жизни, я думаю, что какая‑то часть меня – какая‑то ведущая сражение часть глубоко внутри – просто не собиралась умирать, она была полностью настроена снова воспользоваться этими ключами и этими кредитками в будущем, на существовании которого эта внутренняя часть меня настаивала со всей присущей ей волей.
Некая часть меня шептала:Живи. Живи.
Хочу отметить, что все это ко мне вернулось – кредитки, ключи, часы, небольшая наличность, всё. Ничего не было украдено. Я не получил назад только чек, который лежал в моем внутреннем кармане. Он был измазан кровью, и полиция забрала его в качестве улики. По этой же причине они оставили у себя мои туфли. (Меня спрашивали, почему я так удивляюсь, что ни одна из моих вещей не исчезла бесследно. Неужели кому‑то могло захотеться украсть что‑нибудь в такой жуткий момент? Наверное, я порой думаю о человеческой природе не так хорошо, как те, кто задает мне эти вопросы. Я счастлив, что мои опасения оказались напрасны.)
Большой палец плотно давил мне на шею. По ощущениям палец был крупным. Он зажимал самую большую рану, не давая живительной крови хлестать фонтаном. Хозяин пальца постоянно рассказывал о себе всем, кто был готов его слушать. Он говорил, что раньше был пожарным. Его звали Марк Переc. А возможно, Мэтт Переc. Он был следующим в череде из множества людей, спасших мне жизнь. Однако в тот момент я не думал о нем как о бывшем пожарном. Я думал о нем как о большом пальце.
Кто‑то – возможно, это был врач – говорил:Поднимите ему ноги. Нужно, чтобы кровь прилила к сердцу. Потом появились руки, поднявшие мне ноги. Я был на полу, одежду мне разрезали, ноги мои болтались в воздухе. Я был, как король Лир, “не совсем в своем уме”[4], но в достаточной степени оставался в сознании, чтобы чувствовать… унижение.
В течение следующих месяцев будет еще много подобных телесных унижений. Когда у тебя серьезные повреждения, приватность тела практически перестает существовать, ты утрачиваешь единоличную власть над физической составляющей твоего собственного “Я”, над сосудом, внутри которого плывешь. Ты позволяешь это, ведь альтернативы нет. Ты отдаешь другим право быть капитаном твоего судна, чтобы оно не утонуло. Ты позволяешь людям делать с твоим телом то, что им угодно, – протыкать иглами, ставить дренажи, делать инъекции, накладывать швы и рассматривать твою наготу, – чтобы ты мог жить.
Меня водрузили на носилки. Носилки подняли на каталку. После этого меня быстро повезли через кулисы на улицу к ожидавшему вертолету. Во время всего этого процесса большой палец по имени Мэтт или Марк Перес оставался на том же месте, зажимая рану на моей шее. Однако в вертолете нам с пальцем пришлось расстаться.
Сколько вы весите?
У меня мутилось сознание, но я понял, что этот вопрос адресован мне. Даже в том ужасном состоянии мне было неловко отвечать. За последние годы мой вес резко вышел из‑под контроля. Я знал, что мне нужно сбросить килограммов 20–25, но это слишком много, и я ничего для этого не делал. И вот теперь я должен сообщить каждому в зоне досягаемости звука эту постыдную цифру.
Я был способен произносить только отдельные слоги.Один. Ноль. Девять.
Вертолет был простой черно-желтой пчелкой без дверей и со строгими ограничениями по весу. На борту не было места для большого пальца по имени Мэтт или Марк Перес. Другой палец или нечто другое пришло ему на смену. Я более не был способен воспринимать что‑либо сколько‑нибудь четко.
Мы летели. Я знал это. Я чувствовал, что под нами воздух, ощущал движение и происходившие вокруг меня срочные действия. Посадка была настолько мягкой, что я даже не осознал, что мы снова находимся на земле. Было впечатление, что люди бегут. Подозреваю, что на рот и нос мне надели анестезионную маску. А потом… ничего.
Через четыре дня институт в Чатокуа выпустил заявление, в котором, среди прочего, говорилось: “Присутствие на территории института правоохранительных органов будет существенно увеличено на всей территории института. Кроме того, будут приняты повышенные меры для обеспечения безопасности, многие из которых будут незаметны для посетителей и проживающих на территории. Наш институт в сотрудничестве с профессиональными консультантами по безопасности и различными правоохранительными структурами работает над повышением безопасности и выработкой решений по снижению рисков”. (Десять месяцев спустя, 15 июня 2023 года, обещанные новые меры по обеспечению безопасности были представлены прессе.)
Сначала следует запереть конюшню, может подумать кто‑то, а потом привязывать лошадь.
И тем не менее, как уже, видимо, догадался пытливый читатель, я выжил. В чудесном бразильском романе “Записки с того света (посмертные записки Браза Кубаса)” Машаду де Ассиса герой признается, что рассказывает свою историю, уже находясь в могиле. Он не объясняет, как это стало возможно, так что этот трюк я так и не освоил.
Итак, я выжил – и об этом много еще следует рассказать, – а потому не могу сдерживать свойственную моему сознанию любовь к свободным ассоциациям.
Ножи. Ножи в любимых фильмах, “Нож в воде” Полански, история о насилии и безбожии. Ножи в любимых книгах. “Чудесный нож” Филипа Пулмана, который может прорезать границы между мирами и позволяет тому, кто им владеет, путешествовать по многочисленным реальностям. И конечно же нож мясника, которым главный герой “Процесса” Кафки оказывается зарезан на самой последней странице романа. “Как собака, – сказал он так, как будто этому позору суждено было пережить его”[5].
И еще два ножа, моих личных.
Первый: в 1968 году, окончив Кембридж, я поехал к родителям в Карачи, Пакистан, чтобы попытаться понять, что мне делать со своей жизнью. В те дни сравнительно молодой местный телеканал должен был каждый вечер транслировать одну программу на английском, часто это было что‑то наподобие истории из вестерна “Бонанца”. Человек, который управлял тогда телевидением Карачи, Аслам Азхар, был другом моей тетушки Баджи (Бегум Амины Маджид Малик, известной просветительницы и старшей сестры моей матери). Она устроила мне встречу с ним, и я представил свое предложение. Если он хочет вести вещание на английском, сказал я, почему бы периодически не давать какой‑то оригинальный материал, а не просто постоянно гонять все эти “Гавайи 5.0”? Я предложил поставить одноактную пьесу Эдварда Олби “Что случилось в зоопарке”.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Перевод М. Дадяна.
2
Перевод В. Столбова и Н. Бутыриной.
3
Перевод С. Маршака.
4
Перевод Б. Пастернака.
5
Перевод Р. Райт-Ковалевой.