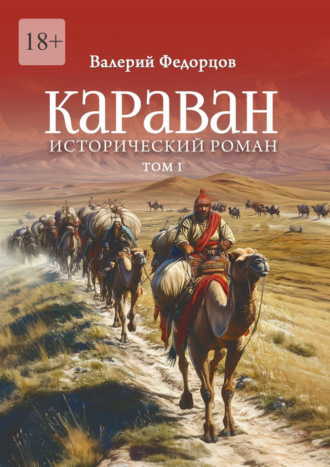
Полная версия
Караван. Исторический роман. Том I
Беспокоило Тохтамыша и отсутствие единого наименования его страны. Прибывавшие к нему иноземные послы и представлявшие различные верительные грамоты, как только эту страну не называли: Татария, Тартария, Комания, Кумания, Кыпчакское царство, Дешт-и-Кыпчак, Джучиев Улус, Белая Орда (будто Синяя являлась отдельным государством) и так далее. Дошло до того, что в грамоте одного из послов Орда* называлась Узбекским улусом. Подобное отождествление особенно не понравилось новому ордынскому владыке. После этого Тохтамыш повелел, что впредь его страна во всех официальных ярлыках*, пайцзах*, верительных грамотах и прочих документах, будет называться одинаково – Улуг-Улусом* (Великим Улусом).
Мощь и процветание любой страны, в первую очередь, зависит от состояния её казны (финансовых возможностей). На момент прихода к власти Тохтамыша, в этом направлении в Орде* царила полная вакханалия*. За годы смуты государственная казна опустела. Местечковые улусбеки* и вали*, которыми в большинстве случаев были огланы*, не только перестали платить налоги (по ордынски, ясак* и выход*) в центральную казну, но стали считать уклонение от их уплаты своего рода показателем собственной значимости и величия. Попытки ордынских царей* навести в этой и других сферах порядок, заканчивались для тех очередным заговором и свержением, сопряжёными, как правило, либо с убийством, либи с отравлением этих правителей. Любой местечковый владыка, правивший отдельным «удельным» улусом* огромной Орды*, являлся, как правило огланом*. С тех пор, как на сарайском троне прервалась ветвь джучитов*, каждый из огланов* считал себя равным в правах с занявшим этот трон правителем, и в полной мере не считал нужным тому повиновавться. Особенно наглядно это стало проявляться, когда на сарайский трон стали претендовать и садиться представители Синей Орды*, к числу которых принадлежал и Тохтамыш*. В Орде его хоть и признали царём*, но такой властью, которую имел над своими мирзо*, амирами* и диванами* амир* Тимур, Тохтамыш располагать не мог. Ордынскими огланами*, он больше воспринимался как равный среди равных, которому волей Всевышнего и случая, достался трон, нежели как старшего над равными. Поэтому, хотя Тохтамыш, подобно Тимуру, и был «свирепого нрава», но в силу сложившихся обстоятельств, вынужден был с местечковыми ханами в большей степени договариваться, нежели безоговсорочно теми повелевать. Да что говорить об огланах*, если даже некоторые улусы*, находившиеся в вассальной* зависимости от Орды* но управляемые меликами* из местной знати, перестали платить выход*! С создавшимся положением Тохтамыш тем более больше мириться не мог, но и бросить вызов сразу всем своим местечковым вассалам*, тоже не имел возможности. Объединившись, те могли его смести также легко, как делали это ранее с его предшественниками. Оценив обстановку, Тохтамыш решил сполна употребить свою власть и силу, сначала в отношени одного из зарвавшихся местечковых правителей. В этом случае, ему целесаообразнее было начать с правителя не огланского* происхождения. По совету своих хаваши*, он решил остановиться на Московском нойоне*, мелике* Адаме, как в Орде* звали Дмитрия Донского. В прошедшем году, этот мелик*, во главе объединённых войск урусов*, смог разгромить темника* Мамая, претендовавшего на царский трон в Орде*. Но по закону степи, последний не имел на это права, так как не являлся чингизидом*. Поэтому, та победа, была несомненной заслугой Адама Москвалика*, как его ещё называло ближайшее окружение Тохтамыша. Но впоследствии, присягнув Тохтамышу, тот не посчитал нужным своевременно заплатить выход* Орде*. Дурной пример заразителен, решил по этому случаю Тохтамыш, и ему могут последовать другие такие же улусы*, населённые урусами*. А если урусы* перестанут платить выход*, то что тогда спрашивать с тех улусов*, где правят огланы*? Кроме того, после победы над Мамаем, урусы*, особенно московские, воспряли духом и теперь слишком высокоменно ведут себя по отношению к ордынцам*. Так Дмитрий Донской стал главной мишенью ордынского царя* Тохтамыша. Его следовало показательно проучить не столько за задержку выплаты дани, сколько для устрашения других местечковых правителей, показав тем для начала, кто в Орде* настоящий владыка. Потом, можно будет поочерёдно начинать разбираться и с другими, в том числе огланами*, если те вовремя не поймут, что от них хочет верховный правитель Орды*.
Тохтамыш решил направить посла к Московскому нойону* Адаму Москвалику* и вызвать его в Сарай ал-Джедид*, чтобы потребовать от того повиновения и выплаты дани. Вначале он хотел поручить эту миссию своему эмиру* Карач-Мурзе, но порызмыслив, раздумал, так как тот должен был в пути следования через земли урусов*, нагнать страху на слишком осмелевший после Куликовской битвы русский народ. Представителей этого народа, Карач-Мурза должен был беспощадно карать за малейшее проявление непочтительности к ордынцам. Приехав же в Москву, он должен был разговаривать с Адамом Москваликом* так, как говорили с нойонами* урусов* послы Бату-хана. Однако Карач-Мурза не годился для этой миссии, как по своему характеру, так и по дружественному отношению к урусам*, и непосредственно к нойону* Адаму Москвалику*. Этого отношения он от Тохтамыша даже никогда не скрывал. В Москву решено было отправить другого эмира*, Ак-Ходжу (Ак-Хозю) *. Этот человек, как казалось ордынскому царю*, для той цели был вполне подходящий. Для большей внушительности, Тохтамыш направил вместе с ним ещё несколько ордынских вельмож и кошун* отборных нукеров*, численностью в семьсот человек. До прибытия в Москву, Ак-Ходжа* должен был попутно посетить Рязанского и Нижегородского нойонов*, владения которых граничили с Ордой* и под угрозой опустошения их улусов*, потребовать от тех безоговорочного подчинения Великому ордынскому царю*, даже в случае его войны с Московским нойоном* Адамом Москваликом*.
Глава 3: Взятие Тимуром Фусанджа и цена этой победы
После получения вестей от Кара-Кончара, в хорасанском городе Фусандже с ещё большими усилиями продолжили вести приготовления к отражению нападения врага, появления которого у этой крепости, согласно распространённым среди горожан сообщениям, фусанджцы ожидали как минимум к вечеру. Но уже к полудню, за городскими стенами Фусанджа, неожиданно послышались протяжные звуки сурнаев* и нагар*, дополняемые глухими ударами дум-думбаков* и тамбура*. Это с северо-востока, по Самаркандской сакме*, к названному городу подступило многочисленное войско правителя Мавераннахра*, амира* Тимура*. Оно быстро осадило Фусандж со всех сторон, начав подготовку к его штурму.
Данный город, с момента его основания, играл ключевую роль во всех войнах. Он являлся крепостью, прикрывававшей подходы к крупнейшему городу средневекового Востока – Герату. А этот город, в те годы, наряду с Мервом, Балхом и Нишапуром, являлся одной из четырёх столиц Хорасана*. Вместе с тем, Герат располагался на одном из крупнейших азиатских торговых маршрутов, называвшемся Великим шёлковым путём*, и был одним из самых древних, культурных и богатых центров Востока. С момента своего появления, этот город постоянно привлекал к себе внимание завоевателей. На момент вторжения Тимура, Гератом правил Малик Гияс ад-Дин Пир-Али (Гияс ад-Дин) *, являвшейся главой династии Картов, управлявших городом и значительной частью Хорасана в качестве монгольских вассалов* ещё с середины XIII века. Представители названной династии были покровителями литературы и искусств, ревностными строителями мечетей, медресе* и других прекрасных общественных зданий. Именно Картам принадлежала заслуга в возрождении процветающего города среди руин, оставшихся после монгольского нашествия полчишь Чингисхана.
Теперь же этот город решил захватить и присоединить к своим владениям Тимур. Это был его первый поход за пределы Мавераннахра*, с момента приобретения власти над данной страной. От успеха этого похода во многом зависело то, как вдальнейшем поведёт себя названный завоеватель и насколько масштабными окажутся его амбиции.
Прежде чем собрать войско и выступить в поход на Хорасан, Тимур направил послание Гияс ад-Дину, в котором содержалось требование, прибыть тому на курултай* в Самарканд, столицу Мавераннахра*. Подобное послание было формальным указанием на то, что отныне династия Картов считается вассалами* Тимура и являлось уловкой перед началом уже готовившегося вторжения. Ильчи* Тимура также сообщил Гияс ад-Дину, что тот спокойно может ехать в Самарканд, взяв с собой лишь почётный экскорт.
Получив это послание, Гияс ад-Дин был вне себя, ведь ещё в недавнем прошлом Тимур был бродягой-наёмником, в качестве которого поступил на службу к отцу Гияс ад-Дина – Малик Муиз ад-Дин Хусейну. Когда же тот умер, Гияс ад-Дин продолжил поддерживать тёплые отношения с Тимуром и даже женил своего старшего сына на племяннице последнего. Теперь же человек, который несколько лет назад был слугой его отца, требовал от Гияс ад-Дина признать его своим повелителем. С этим Гияс ад-Дин согласиться не мог и война между ним и Тимуром стала неизбежной.
Готовясь к войне с Тимуром, Гияс ад-Дин сумел внедрить в ряды его ближайшего окружения своего лазутчика. Им был таваджи* правителя Герата по имени Кара-Кончар, который за усердия, проявленные на своей новой службе, был замечен одним из самых верных амиров* правителя Мавераннахра* Сейф ад-Дином Нукузом (Сейф ад-Дином) * и вскоре стал таваджи* последнего. Под началом Сейф ад-Дина служил также и соплеменник Тимура, из племени Барлас*, по имени Бури, в непосредственном подчинении которого, оказался и тот самый таваджи* хорасанского правителя, Кара-Кончар.
Накануне начала выступления чагатайского* войска в поход на Хорасан, Тимуром были приняты превентивные меры по нейтрализации сетей лазутчиков Гияс ад-Дина в Мавераннахре*. Тимуровские яргу* и таваджи*, хватали и помещали в зинданы* всех подозрительных, проживавших в Мавераннахре*, но имевших хоть какое-то отношение к Хорасану* граждан. Подавляющее большинство из задерживаемых, вообще никакого отношения к шпионажу никогда не имело, но соответствующим пыткам эти люди часто подвергались чагатайцами* просто так, на всякий случай. Меры то были превентивные, и как считали яргу*, лучше пусть от их чрезмерных перегибов пострадает сотня-другая невиновных, чем останется в рядах чагатайского войска, а хуже того, в стане* самого правителя Мавераннахра* или его ближайшего окружения, хоть один неразоблачённый лазутчик. Кое-какие результаты это всё же дало, и яргу* поймали с десяток имевших отношение к шпионским делам граждан. Но, ни один из задержанных не был вхожим, ни в стан* Тимура, ни в хаваши* его ближайшего окружения. Особенно тщательным проверкам подвергалось чагатайское* войско, от амиров* до простых воинов. Однако, в ходе этих проверок, Кара-Кончар не вызвал каких либо подозрений у яргу* самаркандского правителя, так как служил под непосредственным началом того самого, соплеменника Тимура, Бури, пользовавшегося у своего высокого покровителя абсолютным доверием. В связи с этим, Бури также входил в состав яргу*, участвовавших в данных антишпионских мероприятиях, а Кара-Кончар, в свою очередь, пользуясь его непререкаемым доверием, рьяно помогал своему «новому саиду»* в ведении следствия. Находясь в сложившейся ситуации также в роли яргу*, не мог же он разоблачать самого себя? Так, волею случая, Гияс ад-Дину удалось сохранить «глаза и уши» в стане* своего главного противника. Но они, у правителя Герата, там оставались лишь единственными. Вдобавок ко всему, в ходе принятых Тимуром мер, в руках чагатайцев* оказались все люди, направленные Гияс ад-Дином для установления связи с Кара-Кончаром и передачи от него сведений в Герат. Но на счастье Кара-Кончара, связь этих людей с лазутчиком Гияс ад-Дина осуществлялась лишь путём использования тайников. Самого Кара-Кончара связные никогда в лицо не видели и никакими сведениями о нём не располагали. По этой причине, они не выдали Кара-Кончара даже под самыми страшными и очень изощрёнными пытками, которые, к тому же, тот сам к ним и применял, преследуя при этом сразу две цели. Первая – как можно быстрее избавиться от теперь уже не нужных ему связных, а вторая – дополнительно выслужиться перед подозревавшим «всех и вся» Бури, и таким образом ещё раз укрепить в его глазах доверие к себе.
Внедряя Кара-Кончара в хаваши* ближайшего окружения Тимура, Гияс ад-Дин строго-настрого запретил тому покидать ставку правителя Маверапннахра* без своего на то позволения. Запрет распространялся и на те случаи, если у лазутчика не останется иной возможности передать в Герат самые срочные и очень важные донесения, даже если они окажутся единственными, способнами спасти от захвата или разгрома, какойлибо хорасанский город или крепость, а также на ситуации, при которых самому внедрённому будет грозить непосредственная смертельная опасность.
Прежде чем начать вторжение в Хорасан, Тимуром и его амирами были организованы и проведены ещё ряд подготовительных мероприятий. Уже упомянутый амир* Сейф ад-Дин, отправленный Тимуром для сопровождения Гияс ад-Дина в Мавераннахр*, обнаружил, что правитель Герата усиленно укрепляет городские стены и готовится защищать свою столицу. Стало ясно, что Гияс ад-Дин не собирается ехать в Самарканд и добровольно отдавать свои владения Тимуру. Когда об этом узнал правитель Мавераннахра*, он окончательно принял решение о вторжении. Тимур собрал своё войско и двинул его к Герату.
Город Фусандж оказывался первым на пути следования войск Тимура. Поэтому, гарнизон данного города Гияс ад-Дином был заранее значительно увеличен и укреплён, чтобы прикрыть подходы к Герату.
Подойдя к Фусанджу, войска Тимура окружили этот город и начали готовиться к его штурму. Длительная осада данной крепости не входила в планы завоевателя и его амиров*, так как основной их целью был Герат. Тимур не хотел долго задерживаться возле этой небольшой, и на его взгляд второстепенной крепостёнки. Защитникам города было предложено сдаться без боя, но амиры* Гияс ад-Дина на это ответили отказом. После их отказа, единственной возможностью овладеть городом, оставалось лишь взять его штурмом. Сделать же это было непросто. Каменные стены города хоть и были ниже и тоньше чем в Герате, но при умелой организации обороны могли достаточно долго сдерживать натиски осаждаюших, о чём не мог не знать Тимур и его амиры*.
Накануне войны и осады Фусанджа, Сейф ад-Дин направил в этот город своих лазутчиков, чтобы собрать сведения о состоянии городских укреплений, числе защитников города и их возможностях в сдерживании натиска штурмующих, количестве запасённого провианта, разного рода оружия и других средств защиты от атакующих. Полученные от них сведения не сулили Тимуру ничего хорощего. Защитники Фусанджа в состоянии были задержать продвижение его войск и дать возможность Гияс ад-Дину подготовить Герат к длительной обороне. Единственным слабым местом в городских укреплениях Фусанджа, была наспех заделанная брешь в одной из частей его стены, оставшаяся от её обрушения несколько лет назад в результате подмыва фундамента грунтовыми водами. Лазутчики доставили Тимуру одного из пленённых местных мастеров, принимавших участие в ремонте данного участка стены, который и сообщил ему, что на момент ремонта обрушевшейся части стены не хватало гашёной извести, и его произвели кое-как. Выслушав пленного, Тимур решил воспользоваться этим обстоятельством. Он планировал поставить напротив данного участка стены наиболее мощные катапульты и другие стенобитные орудия. Для захвата, намечавшегося в том месте пролома, Тимуром был специально сформирован отдельный кул* из наиболее подготовленных для штурма городских укреплений воинов. В его ряды были отобраны уже успевшие получить закалку в прежних ратных баталиях и самые физически выносливые гулямы*.
– Отец, разреши мне командовать этим кулом*, – обратился к Тимуру его сын Мираншах.
Тимур взглянул на пятнадцатилетнего подростка. Тот был ещё слишком молод, но своим упорством в обучении воинскому искусству вселял отцу большие надежды. В случае же покорения Хорасана, Тимур был намерен оставить Мираншаха здесь своим наместником. Для этого, юноше необходимо было дать возможность проявить себя настоящим воином в бою, дав возможность завоевать непререкаемый авторитет среди своих амиров* и простых воинов. Поэтому Тимур заранее обдумывал, каким образом предоставить возможность Мираншаху проявить свои боевые качества и воинскую смекалку, но при этом остаться в живых, не сложив свою голову в первом своём бою. Однако, в сложевшейся ситуации, такая неожиданная просьба сына, да ещё в присутствии всей командной верхушки его войска, вызвала у Тимура определённое замешательство.
– Хорошо ли ты всё обдумал? – обратился к Мираншаху Мир Сейид Береке*, духовный наставник и главный советник Тимура, оценив то неловкое положение, в котором оказался его повелитель.
– Разумеется, он всё хорошо продумал, – ответил за сына Тимур, и уже обращаясь непосредственно к Мираншаху, добавил, – Принимай кул*, и действуй. «Считай, что зажглась твоя звезда»*.
– Да сохранит тебя Аллах, – осталось добавить Мир Сейиду Береке*.
В обстоятельствах, происходивших в присутствии его амиров-темников*, Тимур подругому поступить не мог, иначе он перестал бы для них быть тем Тимуром, которого те привыкли видеть в повседневной жизни. Но когда все разошлись, Тимур подозвал одного из своих самых проверенных таваджи*, являвшегося к тому же, ему как соплеменником, так и родственником.
– Бури! – тихо сказал он ему, – Выбери себе десяток лучших аскаров* и с этого дня вам необходимо неотлучно находиться возле Мираншаха. Не упускайте его из виду не на миг. За его жизнь лично отвечаешь головой, как передо мной, так и перед самим Всевышним. Если справишся с этим делом, то частично загладишь свою вину за просчёт с этим твоим таваджи-хыянэтче*. Тимур имел в виду перебезчика Кара-Кончара, а Бури в свою очередь, прекрасно понимал о ком идёт речь.
– Слушаюсь мой повелитель, – оставалось ответить последнему.
В свою очередь, у того самого, упомянутого Тимуром перебезчика, доставившего завоевателю и его ближайшему окружению столько неприятностей с первых же дней начала военных действий, также, одна за другой наслаивались мало разрешимые проблемы. К моменту начала вторжения войск Тимура в Хорасан, Гияс ад-Дин не сумел восстановить с Кара-Кончаром хоть какую-то связь, в результате чего, тот не смог своевременно предупредить его о начале вторжения и дальнейшем продвижении чагатайских* войск по территории страны в направлении Герата. Лишь только на подходе к Фусанджу, крепости прикрывавшей Герат с самаркандского направления, Кара-Кончару, ценой самовольного оставления стана* противника, удалось предупредить амиров* этого города-крепости о приближении войск Тимура. Но это предупреждение оказалось запоздалым. Кроме того, Кара-Кончар, руководствуясь собственными расчётами, заверил фусанджцев, что войско Тимура подойдёт к городу не раньше вечера, а оно подошло уже к полудню, то есть, на целых полдня раньше предсказываемых им расчётов. В связи с собственным просчётом и рядом других обстоятельств, теперь и сам Кара-Кончар, со своей семьёй, не смог своевременно покинуть Фусандж и убыть в Герат. Он переоделся в доспехи, которые в основном носили младшие амиры* хорасанского войска, и приготовился сражаться совместно с фусанджцами. Теперь Кара-Кончар надеялся лишь на то, что в суматохе сражения ему удастся незаметно покинуть крепость, естественно с женой и ребёнком. Затем можно было ещё каким-то образом попытаться убыть в Герат. Но как всё это осуществить на деле, Кара-Кончар пока не представлял. Для осуществления подобных замыслов, ему целесообразнее было бы оставаться в доспехах чагатайского* таваджи*, но в суматохе нагрянувших событий, Кара-Кончар как следует не съориентировался.
Остаток дня и часть ночи чагатайское* войско усиленно занималось подготовкой к штурму Фусанджа. Наутро тимуровские тумены* выстроились вокруг города, каждый на заранее определённом месте. Амиры* всех рангов горделиво красовались в своих ярких доспехах с изящно украшенными щитами, стоя впереди тёмных рядов своих воинов. Последние приготовления к штурму ими осуществлялись особо тщательно. Амиры* дах* и сад* в последний раз проверяли снаряжение своих аскаров* и о результатах докладывали вышестоящим военначальникам. Поближе к стенам подкатывались штурмовые башни, метательные катапульты-манджаники* с камнями и китайскими кувшинами с зажигательной смесью, «черепахи» на колёсах с различного рода таранами, называемые матарисами*, а также разного рода другие осадные машины. Когда приготовление закончилось, тугачи* подняли свои туги* с конскими хвостами. Возле ставки Тимура взвился его кушун-туг* с тремя кольцами. Курнаи*, нагары* и наи* издали оглушительный рёв и грохот. Под бой тамбура* стройные ряды тимуровских воинов двинулись к стенам города. Впереди гнали пленённых накануне жителей близлежащих к Фусанджу селений, которых под обстрелом защитников города заставляли зарывать ров, окружающий стены. Но, не дожидаясь пока эта работа будет закончена, ко рву стали подкатывать штурмовые башни и метательные катапульты. Начался обстрел города. С обеих сторон полетели тучи стрел. Метательные катапульты начали швырять в город камни и китайские кувшины с горевшей жидкостью. В городе вначале запылали отдельные деревянные постройки, но потом разгорелся повсеместный огромный пожар. Защитники города ответили тем же. В их распоряжении имелись крепостные орудия для метания «греческого огня»*. Используя их, оборонявшиеся стали жечь штурмовые башни нападавших, которые те даже не успевали придвинуть к городским бастионам. Не дожидаясь, пока ров будет засыпан полностью, воины Тимура пошли на приступ. Они преодолевали это препятствие, карабкаясь на откосы крутого вала, подносили и ставили штурмовые лестницы, по которым взбирались вверх на стены. Снизу, их как могли, прикрывали лучники, посылая в защитников города тучи стрел. Защитники города оборонялись всеми доступными способами. Они сбивали влезавших камнями, поливали их горячей смолой и кипятком, баграми и рогатинами сталкивали лестницы со стен, вместе с находившимися на них штурмующими. Нападавшие падали со стен грудами, обожжённые и обваренные. Под непрерывным натиском тимуровских воинов, полчища которых, подобно среднеазиатской саранче, продолжали лавиной взбираться на стены Фусанджа, защитники города несли немалые потери. Но их число было несравнимо с тем, что теряли штурмующие. Несмотря на яростное упорство обеих сторон, исход этого дня битвы продолжал оставаться непредсказуемым. Но впоследствии произошло событие, решившее исход сражения в пользу самаркандского завоевателя. А произошло всё следующим образом.
Сын Тимура Мираншах, сосредоточил свой кул* напротив заранее определённого ему для атаки участка городской стены. Высота этого участка была примерно на кулач* выше, чем всех остальных, поэтому хорасанские амиры* и сил для обороны здесь оставили меньше, перераспределив их по другим бастионам. Вероятно, по этой причине здесь не было уделено должного внимания и при устранении ранее возникшего в этом месте обвала стены, о чём теперь знали и Тимур, и Сейф ад-Дин, и Мираншах. Как и везде, напротив этого участка стены, ко рву подкатили метательные катапульты и «черепахи» с разного рода стенобитными таранами. Но катапульты тут ставили гораздо массивнее, чем на других направлениях атак. Как только нагары* и тамбуры* подали сигналы для атак, катапульты здесь, как и везде начали методично обстреливать стены массивными камнями, а воины Тимура, как и на других направлениях, погнали впереди себя пленников, которые засыпали ров. Но Мираншах не спешил посылать на штурм своих воинов и они стройными рядами продолжали стоять на своих местах на расстоянии, не досягаемом для поражения стрелами или «греческим огнём»* противника. Кроме того, нападавшие не подтащили здесь ни одной штурмовой башни, что было воспринято защитниками города как отказ душмана*, штурмовать крепость именно в этом месте. Они сняли на этом участке стены ещё более половыны защитников, причём самых боеспособных, направив тех на другие бастионы. Оставшиеся же на стене явно расслабились, и стали менее интенсивно посылать стрелы как в засыпавших ров пленных сограждан, так и в гнавших их ко рву воинов Тимура. Они считали, что таким образом приберегают средства защиты на случай штурма их участка стены. Но если такая стрельба и наносила, какой либо урон осаждавшим, то в основном от этого страдали подневольные сограждане, засыпавшие ров. Имевшие же при себе щиты чагатайцы* лишь изредка получали случайные ранения, да и те в результате собственной невнимательности, самонадеянности и показушного игнорирования опасности. По всему периметру стен уже бушевало яростное сражение, а здесь лишь слышались глухие звуки издаваемые ударами массивных камней, посылаемых катапультами в каменную кладку стены. В этих местах поднимались клубы бурой пыли, а от стены отлетали лишь отдельные её фрагменты. Однако в целом, казалось, что её кладке здесь не приносится большого вреда. Мираншах нервничал. Он с нетерпением ждал, когда перед ним будет засыпан ров, чтобы придвинуть к стене «черепахи» с таранами, благо высота вала в этом месте невысокая и позволяла их использовать. Ров уже был почти засыпан, как вдруг раздался страшный грохот. Это обрушился тот самый участок стены, отремонтированный накануне после подмыва, погребя под собой находившехся на нём защитников крепости и подняв в воздух клубы пыли. Когда пыль немного рассеялась, нападавшие и защитники города увидели образовавшейся пролом. Он оказался такой величины, что ошеломил и ту и другую стороны.

