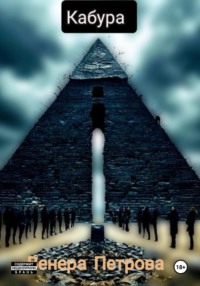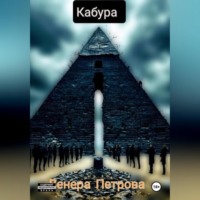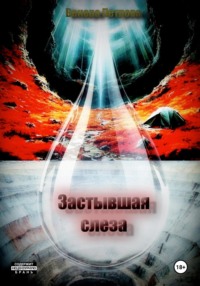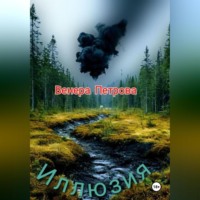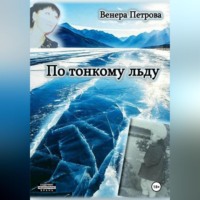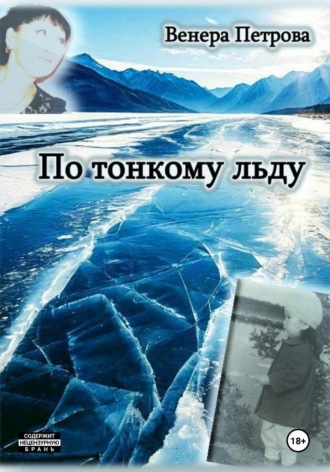
Полная версия
По тонкому льду
Бог с ней математикой. Надо отдать должное, она пыталась учить нас, девочек, как жить. Приглашала домой, показывала, как лепить пельмени. Таким образом, она готовила своим обеды и ужины, спихивая на нас ребёнка. При этом всё говорила и говорила, обо всём на свете: о том, каким успехом она пользовалась у мальчиков, какой у неё муж хороший, но пьющий. Говорящий рот с дипломом математика, Молекула, до сих пор уверена, что она дала нам путёвку в жизнь в ущерб своей личной жизни. Я только в том последнем восьмом классе готовилась к экзаменам по-настоящему, ибо собиралась свалить оттуда и поступить в какое-нибудь училище, неважно в какое. Для этого на велике ехала в лес за деревню, чтобы где-нибудь под деревом, в тишине, где бабки с чёрным ртом нет, зубрить билеты. Молекула до сих пор уверена, что это я к приезжим строителям ездила, да ещё с рубиновыми серёжками в ушах.
Соседу по парте математика очень даже пригодилась. Он больше нас всех умеет считать деньги и вполне преуспел в жизни. «Вы, зубрилы, мне ещё завидовать будете», – сказал он однажды, так и вышло.
Пригодилось бы домоводство, но вместо него у нас был урок труда. Бывший учитель математики на пенсии учил мальчиков столярному делу, а в это время мы шили, что хотели. Я ему показывала наспех сшитый матрасик для кукольной кровати раз сто и получала свое заслуженное «5».
Не думайте, что мне в школе, да и дома было настолько плохо, наоборот, у меня было обычное советское детство со своими радостями и горестями. Не голодала, не бедствовала. Оно было таким, как у всех. Просто у всего обычного есть изнанка, где и кроются истоки фразы «не всё так однозначно».
Пожиратели чужого времени
У нас с подругой была феноменальная способность видеть в обычном неординарное, в заурядном особенное, превращать жизнь в игру, а игру принимать за жизнь. Казалось бы, вокруг ничего интересного, но мы умели удивляться. Могли бы и других удивлять, да публика смотрела сквозь нас.
Времени для раскачивания было достаточно. Мы наслаждались этим даром, не тратили его впустую. Гёте говорил: «Худшие воры – это дураки: они крадут и время, и настроение». То ли дураков было меньше, то ли они, нас самих дураками считая, не лезли.
На лето мы расставались, проводили его по отдельности. Моей вотчиной был берег реки, благо, она была в двух шагах от дома. Три долгих летних месяца целыми днями играла на камнях. Это был мой собственный мир. Без дураков и полоумной моей бабки.
По весне мы уже вдвоём гуляли у реки. Однажды мы обнаружили огромную нору в обрывистом берегу. Вернее, дыру. Мы решили, что это вход в подземелье. Мы изнывали от любопытства, но пролезть туда не решались. Из-за боязни перед неизвестностью или, скорее, из-за опасения тупо там застрять. Пролезть пролезли бы, только обратно вылезти точно бы не смогли.
Нашли мальчика помельче, поглупее. Засунули в нору и стали ждать. А вдруг что-то пойдёт не так: грунт обрушится или застрянет навеки. Неизвестность будоражит воображение, мы в предвкушении чего-то необычного, опасного. Удобно бояться со стороны, будучи уверенным, что тебе лично ничего не грозит. Хоть какая-то польза от пожирателей чужого времени. Ими можно заткнуть все дыры и пустоты – не жалко.
Тому мальчику не суждено было застрять в разломе того застойного времени. Уготовано было судьбой иная участь – спиться и слиться с тьмой в эпоху безвременья.
Список использованных мужчин
Это удивительно, что нас двоих не смогли одинаковить, обезличить. Всё наше детство могло бы раствориться во времени. В унисон со своим поколением могли бы с умилением вспоминать на склоне лет песни у костра, походы под конвоем, пионерские забавы, тимуровскую суету, комсомольские будни, всякие мелочи из копилки коллективной памяти. Ведь мы все родом из страны, которой нет.
Исток один, итог, слава богам, разный. Список прочитанных книг – одинаковый, методы воспитания – одни, среда – одна. Из этого месива получилось то, что получилось.
Наш список прочитанных книг отличался от списка рекомендованной и обязательной литературы для нашего возраста. Мы проглотили всю детскую литературу, имеющуюся в сельской библиотеке, что библиотекарша вынуждена была разрешить нам брать все остальные книги. Потому “взрослая” литература прошла через нас, не оставив следа. А перечитывать их нет ни времени, ни желания.
Есть пресловутый список прочитанных книг, который был обязателен для того времени (наверное, чтоб казаться умным). Но у нас были свои предпочтения. Пару книг я просто обожала. Эти книги и подруге навязала, чтоб черпать из них сюжеты для новых игр.
В списке моих жизненных потерь названия любимых книг занимают особое место. Когда поехала жить на родину первого мужа, по глупости вскоре туда перевезла все свои вещи. Ладно, мебель, одежду, зачем книги-то надо было везти? Видать, до гробовой доски собиралась там жить. Кто знал, что уже через полтора года сбегу оттуда. В чём была, с двумя детьми, оставив всё. Уж, конечно, не прихватив с собой хотя бы свои любимые книги.
Сейчас у меня только второй том книги Александры Бруштейн “Дорога уходит в даль” и пара других совсем уж неизвестных авторов. На чужбине осталась зелёная книга еврейского автора. Это был Исхок Лейбуш Перец. Каюсь, потом погуглила. В то время книги для нас были без авторов и даже без названий. Мы их читали не для того, чтобы восторгаться слогом, нетленными образами. Даже не ради сюжета. Книга для нас оживала, давала возможность прожить чужую, другую жизнь. Потому весьма странное сочетание любимой литературы. То, что Бруштейн является любимым писателем многих из нашего поколения, узнала совсем недавно. В том, что любимую книгу написал реальный человек, убедилась на кладбище в Москве, случайно увидев её скромную могилу. Чем околдовала нас эта книга, в чём секрет успеха? Наверняка, в деталях, в жизненной правде, ибо написана она от первого лица в стиле, как сейчас говорят, “non fiction». Да и Перец в своих рассказах тоже весьма убедителен. Воистину сила в правде.
В те времена мультиков-то не было. Нам после уроков на продлёнке показывали диафильмы. На белой простыне оживали вдруг сказки. Немая застывшая картинка менялась вручную, но мы всё же оказывались в сказке. Все эти книги, картинки давали волю нашему воображению.
Из детской литературы мне особо нравилась одна тонкая книжечка с красочными иллюстрациями. Она была библиотечная, сколько раз её на дом брала, не помню. Ума не хватило тупо стырить её. В памяти остались только картинки о том, как одна девочка-сирота батрачила в чужой семье: целыми днями готовит, убирает, а хозяева жрут и жрут, и никак нажраться не могут. Ни названия, ни автора не помню, но очень хотелось бы иметь сейчас сокровище моего детства.
В собственности был набор картинок в коробке со странными домами на курьих вроде ножках, с домом-деревом, где на ветках было развешано бельё. Книги до сих пор есть в отчем доме. Даже довольно потрёпанная большая книга «Дети-герои». Помню, местный алкаш, любивший умничать, выпячивая свою начитанность, после первых двух стопок говорил: «Ну, где они эти дети-герои? Кто их помнит? Кто чтит их память? Зря таскала огромные вёдра с молоком Мамлакат Нахангова, получается». Насчёт таджички Мамлакат ничего не могу сказать, а Павлик Морозов до сих пор в тренде. Вот кто нетленный герой. Все книги сохранились, а картонных тех картинок нет.
Говорят же, если на свете найдётся хоть один читатель, почитатель, значит, всё не зря. Я «Преступление и наказание» до конца не прочла, а ту книжку о бедной девочке сто раз, наверное, читала. Респект неизвестному автору.
Больше никого никогда не перечитывала. Прочла книгу, занесла в список прочитанных книг, и до свидания. С глаз долой – из сердца вон. Странная аналогия: список прочитанных книг наравне со списком моих мужчин. Список авторов методом тыка и список мужчин… Тут приходит ответное сообщение на репост начала этой пока мне непонятной вещи в Ж/Ж: «Что ты мне послала? Кроме рассказа ничего нет». «Это начало моей новой повести. Могу твоё имя занести в список использованных мужчин».
Вернее, в список использованных мужчин, где один тупой, другой ещё тупее. И оба списка, как доказательство впустую потраченного времени.
Кстати, мою запрещённую книжку одна девушка, как сама уверяла, читала раз 15. Мой издатель, советовавший мне писать только для дураков, далеко не дурак.
Психоанализ и список прочитанных книг
Мы себе давали слово не взрослеть, как можно, дольше, оттягивать время, чтобы не оказаться раз и навсегда в суровой реальности.
Всему экзистенциальному ужасу противопоставить было нечего. Агрессивный атеизм пресекал в корне всякие попытки поиска точки опоры в пустотах бытия. Наши игры давали возможность жить понарошку, не желая начать не с той строки автограф на книге жизни, оставляя на потом все промахи, ошибки, отчаяние и страхи.
А может, лучшая победа
Над временем и тяготеньем —
Пройти, чтоб не оставить следа,
Пройти, чтоб не оставить тени
На стенах… Может быть – отказом
Взять? Вычеркнуться из зеркал?
Так: Лермонтовым по Кавказу
Прокрасться, не встревожив скал.
А может – лучшая потеха
Перстом Себастиана Баха
Органного не тронуть эха?
Распасться, не оставив праха
На урну… Может быть – обманом
Взять? Выписаться из широт?
Так: Временем как океаном
Прокрасться, не встревожив вод…
Оставленная на потом Цветаева в списке прочитанных книг занимает особое место. Остальных авторов без сожаления можно вычеркнуть.
Вначале в селе был только один телефон – на почте. Затем он появился в конторе сельского совета. Крутишь ручку – попадаешь в коммутатор, просишь соединить с кем надо. А дома неугомонное радио: он будит, развлекает, вместо колыбельной песенку поёт. Оно тоже развивало воображение. Местные новости начинались со звуков варгана. Мне всегда казалось, что это чай наливают. В памяти навсегда осталась заставка передачи «Радио-няня».
«Рассказы о бесчисленных трудовых подвигах товарищей из разных уголков необъятной страны так сильно меня волновали, что я воображала себя дояркой с орденом Ленина на лацкане единственного выходного пиджака, сшитого в местном быткомбинате…» – это явно не обо мне. Дояркой я точно не хотела стать. Я к коровам, равно и к младенцам относилась как-то прохладно.
Другое дело, «Голос Америки» с радиолы. Но голос оттуда всё время говорил о ядерной угрозе, гонке вооружений, о том, что может начаться третья мировая война. Оживала карикатура из «Крокодила» из серии «НАТО нападает» или «Проклятый Запад». Я знала, что такое Пентагон. Мне становилось не по себе от равнодушного голоса ведущего «Голоса Америки» только тогда, когда родителей дома не было, особенно по вечерам. Это были годы так называемой разрядки. Потому радио не было пугалкой.
Потом в деревне появился первый телевизор. Те счастливчики, которые купили ящик, поставили высоченную самодельную антенну. И все под каким-нибудь предлогом стали ходить к ним в гости. Я с мамой и папой тоже ходила однажды, когда папу показывали. Но его так и не увидела – всё мерцало, какие-то полоски мешали.
Со временем телевизор купили соседи за стенкой. Теперь я зачастила к ним смотреть фигурное катание. Остальные передачи иногда смотрела через щель в стене. Приходилось залезать на кровать родителей, заходить за пыльный настенный ковёр и, стоя на цыпочках, смотреть соседский телевизор. Он у них был не в комнате сразу за стеной, а в другой. Надо было, чтоб дверь в соседнюю комнату была открыта. Если у них резко открывалась входная дверь, в глаз могла соринка попасть.
У нас самих это чудо появилось намного позже, когда построили свой собственный дом. Потому успела насладиться жизнью без телевизора. Телевизор был черно-белым, с огромным задом, с ручным переключателем каналов. Каналов всего два, и вещали они оба в рабочее время. Первый советский «сериал» – многосерийный художественный фильм «Вечный зов» показывали только по воскресеньям. По мотивам фильма «Семнадцать мгновений весны» играли уже все дети. Появились у нас свои айсманы, борманы. А мы с подругой в такие игры уже не играли. У нас появились более важные дела. Мы влюбились в одного и того же. Не помню, кем его нарекли – Герингом, Шелленбергом, Гиммлером?
С соринкой в глазу, с пыльными от ковра волосами, но вполне довольная жизнью, я возвращалась в свою реальность. Или в иную параллельную плоскость.
Когда была совсем маленькой, я голову ломала – как этом в маленьком радио весь мир вмещается. Потом удивлялась мужеству людей из телевизора, как можно на весь мир вещать без стеснения. О том, что когда-то сама окажусь в телевизоре, я, конечно же, не предполагала.
Настенный ковёр играл важную роль в моих играх-сериалах. Каждый раз в его узорах находила все новые знаки. А колючее шерстяное зелёное покрывало на родительской кровати становилось цветущей лужайкой посреди лютой зимы.
Долгое время я боялась засыпать. Меня пугал тот самый миг между сном и явью, этот неконтролируемый переход в небытие. Мне казалось, что сон – это репетиция смерти, смерть понарошку. По сути, так оно и есть. Разница в одном: во сне могут быть сновидения, а смерть – это, «как варёное мясо», как говорила моя бабушка. Почему варёное? Любое мясо уже мертво. К тому же сон – это украденное у жизни время. Если одна сигарета сжирает 15 минут жизни, во сне мы проводим большую её часть. Я вот только сейчас погуглила: «Гипнофобия – это иррациональный страх заснуть, или боязнь сна. Её также называют клинофобией и сомнифобией. Она считается одной из самых опасных фобий, так как нарушает важнейшую физиологическую потребность человека – потребность во сне».
Потому я любила, когда папы нет, спать рядом с мамой. Мама читает мне вслух, я засыпаю. Не очень-то и хотела складывать из разрозненных букв слова, чтоб самой не читать. Мамин голос убаюкивал, заслонял от поджидающих в темноте демонов ночи. Даже бездарный текст какого-нибудь случайного автора с подачи мамы казался просто волшебным. Потом для пополнения проклятого списка прочитанных книг приходилось перечитывать эти толстые книги, но это было уже не то. А свою дочь научила читать буквально за день, чтоб только не читать ей вслух…
Ту меня, настоящую, слепили все эти игры, список прочитанных книг, «радио-няня», свежесть, яркость, новизна моей собственной утренней зари. Я бы тоже о себе могла сказать, как Карл Густав Юнг: «Я то, что я с собой сделал, а не то, что со мной случилось». Во мне той сидел скорее философ, нежели психолог и психиатр, как Юнг. Причём, философ экзистенциальный с эпизодическими наездами в космологию.
Помню, каждый год заставляли писать сочинение на тему «Кем быть». А я до сих пор не знаю, кем бы хотела РАБОТАТЬ. Лозунг «Все работы хороши, выбирай на вкус» понимала, как «Все работы плохи, лучше уж ничего не делать». Не хотела я делать что-то одно, изо дня в день, из года в год, и так до полной победы коммунизма. Но и при коммунизме предполагалось, что все должны работать: «Каждому по труду от каждого по способностям». Тратить одну единственную жизнь на что-то одно скучное дело не собиралась. Так оно и вышло. Не помню, что я в поте лица трудилась во благо отечества или на какого-то дядю. Приходилось, но с большими перерывами да перекурами, из-под палки. Первую запись в трудовой книжке получила из-за опасений попасть под статью за тунеядство. В первый раз вышла замуж, чтобы под суд не попасть за отказ ехать в сибирскую ссылку. Раз наш куратор, по совместительству секретарь партийной организации, потому гроза всего техникума Пиночетка заявила: «Не хочешь работать по специальности, ехать по распределению, выходи замуж, выбора у тебя нет», значит, надо брать. Неважно кого, плевать, что мне только 19. К слову, мама потом призналась, что писала руководителю группы, а письмо было адресовано ПИНОЧЕТКО Людмиле Григорьевне. Надеюсь, не дошло. Березина же не знала, что она Пиночетка.
Господи, где была моя голова, ну, не посадили бы меня. Условный долг висел бы, да и всё. Мол, я не отплатила Родине за бесплатное обучение. Так меня никто и не учил, я там даже не появлялась, потому не отличала теодолит от нивелира. Экзамены сдавала по шпорам, цифры на практике списывала у подруги. Этот долг до сих пор висит, уже, наверное, пени насчитано размером 1000 МРОТ. Может, мне умереть за Родину, чтоб смыть позор юных дней?
Кстати, во времена моего детства, модно было жалеть, что родились мы слишком поздно, нет шанса стать героем: лезть на амбразуру, подорвать собой танк, ну, хотя бы, как Павлик Морозов, настучать на своих родителей, ибо на их стороне суд и закон, а ребёнок – это никто. Ни революций, ни войн. Прожить жизнь так, чтоб «не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы», можно было только путём упорного труда, строя БАМ, например.
Ой, не туда я, однако, завернула. У нас был справочник с перечнем всех учебных заведений Советского Союза. Чем старше становилась, тем чаще туда заглядывала, ибо надо было писать сочинение на заданную тему. Иногда методом тыка находила то или иное учебное заведение, примеряла на себе ту или иную специальность, главное, сочинение на «отлично» написать. Это у меня лучше получалось, чем решать задачи, чертить схемы, прыгать через ненавистного козла. В том справочнике не было специальностей, связанных с философией, космологией. Астрофизика или космофизика была напрямую связана с математикой, физикой. И везде надо было сдавать историю, это меня сильно смущало, ибо даты тоже не моё. Выбор сужался. Мне казалось, что специализация во многих вузах была связана с преподаванием. Это было точно не моё. Странно, все учителя были помешаны на профориентации, а толком ничего так и не объяснили. Что стоит за всеми опытами, решениями задач, схемами, таблицами, так никто и не сказал. Мало знать, надо ведь ещё уметь пользоваться этими знаниями. Потому все неиспользованные, не востребованные за всю жизнь файлы были с лёгкостью утилизированы.
Из такого месива в те далёкие годы всё же сформировался мой «внутренний человек». Без синусов и косинусов, состоящий больше из вопросов без ответов, с зародышем вечного протеста. Я себя сто раз меняла, но того, кто внутри, особо не теребила. В любой непонятной ситуации, в любые смутные времена мог выручить только он. Нам, рождённым в СССР, никакой психоаналитик не нужен. Выговориться можно и собаке: она тебя выслушает, молча подскажет, как вырулить. Ещё говорят: «В любой непонятной ситуации читайте русскую классику. Там у всех всё гораздо хуже».
Фу, всё! Выговорилась. Бесплатно.
Бесполое детство
Пришло время, и мы влюбились. Как истинные сиамские близнецы одновременно в одного и того же. С этого момента что-то пошло не так. Я не скрывала свои чувства, а она… Типа, за компанию, по дружбе автоматом тоже.
До того момента я раз сто влюблялась. Это было моим естественным состоянием и не смертельным занятием. Вот для неё, наверное, это было в первый раз. А для меня любовь на двоих было в новинку.
Это нас нисколько не напрягало. Какая разница, он всё равно не наш. Да у баб вообще нет такого, чтобы делать что-то из серии «Так не доставайся ты никому». Или по жизни так везло – мне легко уступали партнёров, да и я сама «дарила» их или по доброте душевной, или в обмен на что-то. Намного позже выпросили любовника (в прямом смысле), обещав за него должность. В итоге, и им были недовольны (оказалось, он не соответствует её ожиданиям), и мне должность не досталась.
Итак, у нас случилась любовь – любовь на двоих, на расстоянии. Платоническая, ничем не обременённая. Эх, сейчас бы так… Нам было достаточно видеть его. И никаких эротических фантазий, словно мы были бесполые, бестелесные. Всухую же больно – а мы вовсе не страдали. Был некоторый дискомфорт, что мы пирожками заедали.
Наступил момент, когда всё-таки решили заявить о себе. Не век же ходить за ним хвостиком. Нас это немного утомило. В то время о своих чувствах принято было говорить в записках. Обычно мальчики писали, а не наоборот. Так Татьяна же Онегину писала. И, когда вас двое, не так стыдно, не так страшно. А ещё можно было звонить и дышать в трубку. В то время не только телевизор был в каждом доме, ещё и домашние телефоны появились. Не у всех, но были. У кого его нет, звонили от соседей. Обратная связь происходила так же.
И мы решились. Сочинили какое-то почти поэтическое послание, подписались губами. К тому времени могли и губы накрасить. Одна ушлая даже глаза подводила, да так незаметно, что никто ей за это «неуд» не ставил. А Молекула, наша классная, которая вовсе не классная, надо мной год смеялась, что я с завитой чёлкой на урок явилась. Она не стала ругать, а просто поинтересовалась, чем я её завила. Я честно призналась, что горячей вилкой. Можно было с мамиными бигудями спать, так и сказать.
Да, сука, я врать не умела, так краснела, что сразу вычисляли. Это теперь у меня ни стыда, ни совести. Может, мой «внутренний человек» за меня краснеет, да кто его увидит. Вы даже представить себе не можете, как кайфово жить вот налегке – без оглядки, без тормозов. Совесть – такая же ересь, как модное слово «эмпатия», а правда вовсе вещь крамольная. Спасибо тебе, жизнь, что научила обходиться без этой опасной вещи, заставила вовремя избавиться от пережитков совкового прошлого, как стыд, позор и совесть.
Хоть я и мчусь без тормозов, иногда хочется сорвать стоп-кран в вагоне, останавливая тем самым весь состав, увидев по пути баннер: «Из маленьких убийств совести рождается большое зло жизни» (Юрий Нагибин). И почему-то хочется сюда ещё и Цветаеву:
Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст,
И всё – равно, и всё – едино.
Но если по дороге – куст
Встает, особенно – рябина…
Предотвращение катастрофы – это исключительная ситуация или штрафанут?
Подписались губами, а имена свои приписать воздержались. Как теперь доставить письмо? Хотели какого-нибудь глупого малыша попросить, но потом передумали. Или мальчик всё же был? Мы решились на креатив. Поймали его пса, на ошейнике прикрепили записку, дали пинка под зад для ускорения и стали ждать. Чего мы ждали? Что он сам догадается и всё само разрулится? Он, наконец, обратит на нас внимание, ответное чувство вдруг обнаружит? Он раздвоится или будет по очереди нас любить, или одновременно?
Мы придумали другой креатив. Учились уже в другой, новой школе. Из старых школ только одна уцелела, стояла, где стояла. Мы написали другую записку, спрятали под обломком кирпича в оконном проёме бывшей школы. Стали ждать. В упор не помню, как он должен был догадаться, что его записка в таком интересном месте ожидает? Мне кажется, он забрал её. И вообще он догадался. Но это было уже не важно, мы переключились на более важные дела. Зачем бесполым любовь, ещё и на двоих.
С высоты своего возраста и по сравнению с нашими реалиями это всё смешно, дико и убого. Какое-то бесполое детство. Но, погодите, не всё так однозначно. Мы прошли такое половое самообразование, что стыдно признаться. Если следующая глава будет об этом, бывшая подруга дней моих убогих, ей-богу, убьёт. Она ещё в теме, у неё, видите ли, репутация пострадает. Да ладно, когда это меня останавливало, поехали дальше. Всё самое интересное ещё впереди…
По второму кругу
В стране, где секса нет, половое воспитание подрастающего поколения ограничивалось намёками на что-то и полным запретом на это что-то.
Когда пазлы все сложились, маме оставалось только стращать. Если случится ЭТО, то всё, мир рухнет, я окончательно упаду в её глазах. Все мои «неуды», промахи и провалы по сравнению с ЭТИМ ничто.
Мир не только не рухнул, он заиграл всеми цветами радуги, только не в том смысле, о чём вы подумали. Полжизни ходила на цыпочках, говорила шёпотом, стараясь не будить, не задеть, не обидеть ненароком. А теперь, когда от дел можно было переходить к слову, жить без оглядки, без шаблонов, в своё удовольствие, без маски и даже без макияжа, приходится искать спасение в себе самой, искать свой давно усохший кокон. Со своими демонами легче договориться. Или стоит покататься с другими по тонкому льду?
Когда в комсомол принимали, нам весь мозг вынесли, повторяя одну только фразу: «Вы должны запомнить этот день на всю оставшуюся жизнь». Фразу помню, день – нет. Помню, что нужно было заявление писать, потом это заявление обсуждалось в райкомоле, и только после этого могли принять в ряды ВЛКСМ. Будто у нас выбор был – всё равно всех принимали. Оптом. Хочешь ли ты, иль нет. Так же становишься женщиной, хочешь этого или нет. День выпал из памяти, но факт, что я стала комсомолкой. Раз и я уже женщина.
Не только мир не рухнул, никто этого и не заметил, включая меня саму. Получается, у меня не было первой любви, а все остальные любови были. Не было первой ночи, а все остальные были. Негоже говорить о сексе, когда его быть не должно.