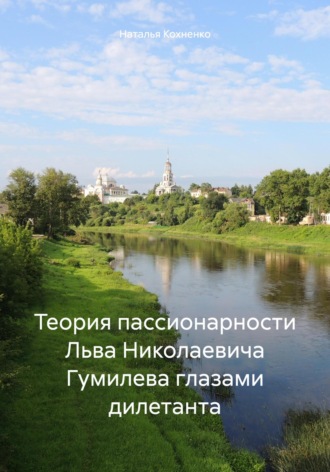
Полная версия
Теория пассионарности Льва Николаевича Гумилева глазами дилетанта
Лев Николаевич объясняет эту метаморфозу тем, что у пассионариев после всех подвигов и свершений во имя общего блага еще остаются нерастраченные силы, которые они и решают направить на реализацию личных целей. Такое объяснение, конечно, является упрощенным. Носители пассионарности – конкретные люди, но на уровне этноса должны быть надындивидуальные механизмы, ответственные за подобную перестройку. В противном случае невозможно объяснить ту согласованность, с которой пассионарии начинают соперничать друг с другом.
Скорее всего, причина «биологична»: чем больше в популяции появляется пассионарных индивидов, претендующих на роль альфа-особей, тем острее ощущается ограниченность ресурсов и проявляется конкуренция. Регуляция такого рода процессов происходит на нейрогуморальном уровне без вмешательства сознания. Применительно к человеку вслед за Гумилевым можно сказать: «развитие индивидуализма ведет к столкновению активных индивидуумов» [26], а активных индивидуумов в это время много.
Период феодальной вольницы в Европе XI–XIII веков – когда бароны беспрестанно воевали друг с другом, громоздили неприступные замки и бросали вызов даже королям – приходится именно на акматическую фазу. В этот период на гербах многих родов появляются прекрасно передающие дух времени девизы: «Не король, не принц, не герцог и не граф. Я – сеньор де Куси», «Королем быть не могу, принцем не желаю, я – Роган», «Герцог Савойи, иду своей дорогой».
Эта характерная черта европейского Средневековья в литературе объясняется почти исключительно особенностями феодализма – феодальная раздробленность, ничего с этим не поделаешь. Тем не менее история знает примеры, когда развитие этой формации никакой раздробленностью не сопровождалось: многим восточным странам эпохи феодализма была присуща государственная централизация. Для объяснения этого противоречия пришлось привлекать факторы, не имеющие прямого отношения к общественно-экономической формации, и выделять модели развития феодализма по западному и восточному образцам. Гумилев же утверждал: «Сам принцип феодализма – экономический принцип – вовсе не предполагает огромного количества безобразий», поэтому «стремление, например, дать по физиономии соседу, а потом убить его на дуэли» [21] связано не с экономическими условиями, а с уровнем пассионарности.
Как отмечал Лев Николаевич, «все пассионарные народы в этот период, период пассионарного перегрева, оказались уже не поборниками тех своих положительных идеалов, которые у них были до этого, а противниками своих соседей, и действовали они со страшной энергией, но уже не под лозунгом „за что“, а „против чего“» [21].
Когда один пассионарий начинает бороться с другими, его шансы на победу повышает наличие людей, образующих группу поддержки. Для средневековых феодалов Европы такой группой была армия, пусть маленькая и больше напоминающая банду, но собственная. Вот тут-то и выясняется, что у субпассионариев появляются шанс и своя ниша в обществе. Определяющей силой они по-прежнему не являются. Однако «изменение отношения к субпассионариям со стороны коллектива показывает один из примеров того, как меняется коллективное поведение в этносе от фазы к фазе» [21].
Акматическая фаза – время надежд, свершений и ярко выраженной внешней экспансии. «При переходе фазы подъема пассионарности в акматическую стремление к расширению ареала наступает столь же неуклонно, как закипание воды при 100°С и нормальном давлении» [21]. «Именно в этой фазе создается единый этнический мир – суперэтнос, состоящий из отдельных, близких друг к другу по поведению и культуре этносов» [24]. Однако и зерна будущего раскола этнического поля начинают прорастать в этот же период: этническая структура усложняется, разные субэтнические группы соперничают друг с другом, у ряда пассионариев возникает желание подкорректировать «первоначальный план» строительства общества.
В характеристике акматической фазы Л. Н. Гумилев значительное место отводит ересям. Они могут возникать в любые времена, но для пассионарного перегрева отстаивание чего-то своего – права на положение в обществе, на власть, взглядов на мироустройство, включая еретические, и т. п. – примета времени. Начало этих явлений и процессов, как правило, можно проследить уже в конце фазы подъема. Собственно говоря, так происходит со всеми типичными характеристиками различных периодов этногенеза – они закладываются в конце предыдущей фазы. Поэтому переход от одной фазы к другой не имеет четко обозначенных временных границ.
В свою очередь события акматической фазы дают толчок изменению характера развития этноса, в результате чего в следующей фазе, фазе надлома, «развитие продолжается, но уже в смещенном виде. Меняется знак вектора, а иногда система разваливается на две-три системы и более, где различия увеличиваются, а унаследованное сходство не исчезает, но отступает на второй план» [21]. Само собой разумеется, что при этом происходит перестройка социальных конфигураций.
Ереси относятся не столько к сфере сугубо религиозного, сколько социального взаимодействия. Согласно классикам социологии ереси, эти религиозные течения являются источником интеллектуального развития и социальных изменений, а еретик – «искаженным своим». Если мы рассмотрим возникновение ересей на нескольких примерах, то увидим, что при всех различиях, связанных с условиями зарождения и развития этнических систем, как правило, прослеживается одна и та же схема. Случаи гетеродоксии фиксируются уже в период подъема, на акматическую фазу приходится их расцвет, а в последующий период происходит институциональное оформление некоторых религиозных течений, по границам которых зачастую проходит надлом.
Так, в Малой Азии ереси начали возникать уже в период становления и оформления восточно-христианской церкви (II–III века н. э.), но настоящий еретический бум в восточных Римских провинциях приходится на IV век (арианство, македонианство, несторианство, монофизитство). Возникновение восточнохристианского суперэтноса Гумилев относит к I веку н. э. В этом случае акматическая фаза будет приходиться на IV–VI века.
Однако на уровне акматической фазы в Византии дело не закончилось. В окончательном расколе этнического поля и событиях периода надлома огромную роль сыграло иконоборчество (VIII–IX века), ставшее не только религиозным, но и политическим течением. Иконоборчество послужило поводом для начала внутренних репрессий и кровопролития. В центре иконоборческого конфликта была не столько полемика между сторонниками и противниками икон, сколько расцвет монофизитской ереси, отрицающей человеческую природу Христа.
Несколько иначе складывались обстоятельства в арабском мире. Появление и начало формирования будущего Мусульманского суперэтноса в VI веке н. э. происходило на фоне состояния гомеостаза, в котором пребывали многочисленные местные племена. Жизнь на Аравийском полуострове текла размеренно, возникающие конфликты носили вялотекущий характер. Зарождение и развитие новой этнической системы не встречало серьезного сопротивления и шло ускоренными темпами. Определенную катализирующую роль играли благоприятные условия для экзогамии в арабских гаремах. Как отмечал Гумилев, процесс этногенеза «в условиях колоссального смешения оказывается более интенсивным» [21].
Монолитность ислама сохранялась достаточно короткий промежуток времени. Преемники Мухаммеда начали делить его духовное наследие вскоре после смерти пророка в 632 году. Уже к концу VIII века было несколько религиозно-политических направлений ислама: сунниты, шииты, хариджиты, мутазилиты, мурджииты. Внутри каждого из этих направлений существовало множество различных религиозных школ. Борьба между ними была острой, вела к расколу исламского мира не только между основными направлениями, но и внутри них. Так, только среди шиитов в VII–XI веках возникают секты исмаилитов, имамитов, алавитов, друзов, ассасинов. Причем некоторых из них, с точки зрения Гумилева, характеризуют признаки антисистемы.
Религиозно-этнические противоречия и политический сепаратизм, а также возникновение антисистемы привели к тому, что огромный Арабский халифат стал распадаться на части. Лев Николаевич писал о Мусульманском суперэтносе: «…жизнь его протекала столь напряженно, что состарила его преждевременно» [21].
Пассионарный толчок в Западной Европе состоялся в VIII веке. Соответственно акматическая фаза у соответствующих этносов должна была разворачиваться приблизительно в период XI–XIII веков. До XI века Европа практически не знала массовых еретических движений. Но уже XII–XIII века характеризуются как расцвет ересей в странах Западной Европы. В конце XII века для борьбы с ними была создана инквизиция. Однако и в XIV–XV веках ереси сохранялись, приобретая новый характер и масштаб.
С XIV века в Европе начинается активная борьба за власть как внутри церкви («великая схизма»), так и между церковью и королевской властью. Если мы внимательно присмотримся к событиям того времени, то обнаружим, что в этот период ереси все больше смещаются из области религиозных противоречий в область социальных, превращаясь в различные по своей направленности социальные течения. Таким образом, речь шла уже не о догматах веры, а о политических, в ряде случаев даже национально-освободительных (проповеди Яна Гуса) мотивах. Фактически здесь мы видим уже первые проявления фазы надлома.
Этногенез в акматической фазе идет очень интенсивно. Рост пассионарности ведет к обострению противоречий, конкретные черты которых определяются актуальными местными условиями. «Акматическая фаза особенно часто является весьма пестрой и разнородной по характеру, доминантам и интенсивности протекающих этнических процессов» [26]. С одной стороны, значительное количество пассионарности делает этническую систему мобильной и наступательной, что способствует ее усилению. С другой, внутренняя борьба пассионариев ведет к дезинтеграционным процессам. Характер и последствия этих процессов могут быть различными. Так, для Западной Европы было характерно территориальное распадение, а для Византии того же этапа развития – идеологическое.
Скорость этнических процессов, как видно на примере Мусульманского суперэтноса, тоже может быть различной. К их ускорению ведет не только отсутствие необходимости расходовать большое количество пассионарности на преодоление сопротивления изначально слабых материнских этнических систем или противостояние соседям, но и благоприятные условия для экзогамии.
В период акматической фазы этническая система не всегда оказывается победительницей во внешних конфликтах, так как избыток пассионарности не гарантирует военного успеха. «Вспомним, что он ведет к дезорганизации, происходящей от развития индивидуализма. Когда каждый хочет быть самим собой, то организовать значительную массу таких людей практически невозможно» [21].
Периоды пассионарного перегрева сменяются временными спадами при постепенном снижении амплитуды. Далее «пассионарный спад ускоряется, социальная перестройка неизбежно отстает от потребностей, диктуемых этнической динамикой. Острота ситуации и довольно значительный, хотя и уменьшающийся, запас пассионарности определяют стремление к радикальным решениям» [26].
III
Тот, кто раз видел глаза, горящие ненавистью, никогда их не забудет…
Иван Ильин. «Поющее сердце»За акматической фазой следует фаза надлома – самая трагическая, но и самая короткая (150–200 лет) пора жизни этноса. По словам Гумилева, трагичность этого периода связана не столько с обилием крови, сколько с тем, что льется она в братоубийственных конфликтах.
К началу надлома внутренние противоречия накапливаются. Идея необходимости перемен становится практически всеобщей, но конечный результат и пути его достижения все видят по-разному: «каждый предпочитает заставить другого жить по-своему, а не искать компромисса. Дивергенция становится неизбежной. Оставшиеся в живых пассионарии примыкают либо к одной, либо к другой группировке и таким образом истребляют друг друга в гражданских войнах, являющихся неизбежным атрибутом фазы надлома» [26].
В Византии надлом прошел под знаком иконоборчества. В этот период внутренняя борьба шла на фоне постоянных внешних войн, восстаний и переворотов. Византийская империя уменьшилась территориально, но вышла из глубокого кризиса обновленной. Меньше повезло арабам, для которых переход к фазе надлома стал не только кризисным, но и фатальным.
Не менее бурно протекала фаза надлома в Европе, где XIV–XV века – время «великой схизмы», войн и смут. За это время Европа прошла через разгром ордена тамплиеров, Авиньонское пленение пап, Столетнюю войну между Англией и Францией, в которую фактически было вовлечено пол-Европы, Жакерию во Франции, восстание Уота Тайлера в Англии, сожжение Яна Гуса с последующим народным восстанием в Чехии и многое другое [26].
Фаза надлома, как уже было сказано, является самой короткой. В этом смысле период XIV–XV веков в Европе идеально вписывается в теорию этногенеза. Но, обратившись к соответствующим главам трудов Льва Николаевича Гумилева («Этногенез и биосфера Земли», глава XIII «Фаза надлома»; «Конец и вновь начало», глава VII «Пассионарные надломы»), мы увидим, что описание событий надлома в Европе далеко выходит за его рамки.
Дело в том, что пассионарные толчки затрагивают узкие полосы земной поверхности. Здесь процессы роста пассионарного напряжения начинаются раньше, и раньше наступает спад. На сопредельные территории пассионарность привносится извне. Временные рамки соответствующих процессов сдвигаются. Эти сдвиги влекут за собой многочисленные последствия. Ввиду важности данного вопроса позволим себе привести большой отрывок из «Этногенеза и биосферы Земли» полностью. Речь идет о Германии, где рост пассионарности наблюдался и в XVIII веке.
«Германия больше других стран пострадала от ужасов Реформации, Контрреформации и Тридцатилетней войны. Это объяснимо: пассионарное напряжение там стало спадать уже в XIII в. …а коль скоро так, то эта богатая и цивилизованная страна стала жертвой этносов с высоким уровнем пассионарности. Хорваты, испанцы, валлоны, датчане, шведы и французы проходили Германию насквозь [17] , а немцы, как лютеране, так и католики, либо терпели бесчинства ландскнехтов, либо сами примыкали к их бандам. Вера тут роли не играла; шли к тем полковникам, которые лучше платили.
Так как католики в 1618 г. одержали победу при Белой Горе, то протестанты из Чехии вынуждены были искать спасения в эмиграции; многие из них нашли убежище в соседнем маркграфстве Бранденбург. Туда же охотно переселялись французские гугеноты, а также польские „ариане“. Берлин стал прибежищем для гонимых протестантов, которые принесли с собой свою пассионарность.
Бранденбургская марка была основана на земле славянского племени лютичей, и население ее в XVIII в. было смешанным – славяно-германским. Импорт пассионарности повлек за собой слияние этих этносов, подобно тому, что происходило в Англии в XI–XIII вв. Таким образом, Бранденбург, ставший бранденбурго-прусским государством, по сравнению с западной Германией и Австрией отстал в этногенезе на одну фазу: когда кругом все „просвещались“, пруссаки еще хотели воевать. Поэтому они выиграли войну за австрийское наследство, Семилетнюю войну, войну с Наполеоном I и, наконец, с Наполеоном III, после чего Пруссия встала во главе объединенной Германии, исключив из нее Австрию и Люксембург» [26].
Англия в этом отрывке тоже упомянута. Ее территория изначально находилась за пределами полосы пассионарного толчка. Поэтому пассионарность в Англии была «импортной» и привносилась сначала норвежцами и датчанами, потом нормандцами и, наконец, французами при Анри Плантагенете. Поэтому все этнические процессы, связанные с накоплением и спадом пассионарности, в Англии были смещены, что, впрочем, не помешало ей принимать деятельное участи в событиях фазы надлома своего суперэтноса и, кроме того, быстро восстанавливаться после понесенных в этих событиях потерь. По мнению Л. Н. Гумилева, «этот пассионарный момент в значительной степени определяет политику самой Англии как державы на фоне европейского концерта политических сил» [21].
Таким образом, в Европе временные границы надлома смещены за счет неравномерного распределения пассионарности среди отдельных этносов. Для более полного понимания временных рамок фазы надлома и их возможных сдвигов в зависимости от конкретных условий следует отметить, что, с точки зрения Гумилева, в Европе «эта фаза совпала с эпохой Реформации, великих открытий, Возрождения и Контрреформации. В Риме это было время завоеваний Мария, Суллы, Помпея и Цезаря, а также гражданских войн. В Византии аналогичный творческий и тяжелый период – победы исаврийской династии и иконоборчество. В Арабском халифате этот возраст оказался роковым: Халифат распался… Арабам осталась только сфера культуры, но зато они в ней преуспели изрядно» [26].
Однако вернемся к типичным характеристикам фазы надлома. Тем более что мы подошли к очень интересному феномену, связанному с субъективностью восприятия данного периода жизни этносов сторонним наблюдателем. Под сторонним наблюдателем подразумеваются не только и не столько современники, живущие за пределами соответствующих этнических ареалов, сколько потомки.
Гумилев пишет, что «фазу надлома трудно считать „расцветом“. Во всех известных случаях смысл явления заключается в растранжиривании богатств и славы, накопленных предками. И все же во всех учебниках, во всех обзорных работах, во всех многотомных „историях“ искусства и литературы и во всех исторических романах потомки славят именно эту фазу, прекрасно зная, что рядом с Леонардо да Винчи свирепствовал Савонарола, а Бенвенуто Челлини сам застрелил из пушки изменника и вандалиста коннетабля Бурбона» [26].
Действительно, если взглянуть на развитие культуры и науки применительно к странам и народам во времена, соответствующие надлому, то чаще всего картина будет схожая. Так, в Европе одной из самых ярких эпох в развитии культуры является Ренессанс. Он делится на различные периоды и датируется XIV – началом XVII века. Степень яркости и плодотворности этого периода в различных областях научного знания, искусстве и литературе становится понятна даже из простого перечисления хорошо известных имен: Сандро Боттичелли, Рафаэль Санти, Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Данте Алигьери, Франческо Петрарка и Джованни Боккаччо, Мигель де Сервантес, Франсуа Рабле, Уильям Шекспир и Лопе де Вега, Николай Кузанский, Галилео Галилей, Николай Коперник и Джордано Бруно, Эразм Роттердамский, Томас Мор, Мишель Монтень, Мартин Лютер, Томмазо Кампанелла и Никколо Макиавелли.
Формирование культуры Возрождения в разных европейских странах происходило не одновременно. Раньше всего она сложилась в Италии, которая на протяжении ста с лишним лет оставалась единственной страной культуры ренессанса и прошла несколько этапов: раннее Возрождение, высокое Возрождение, позднее Возрождение. К концу XV века Ренессанс начал набирать силу в Нидерландах, Германии, Франции (северное Возрождение), в XVI веке – в Англии, Испании. По датировке Гумилева, с конца XVI века Западноевропейский суперэтнос вступает в инерционную фазу, а формально завершение эпохи Возрождения в ряде европейских стран пришлось лишь на XVII столетие.
В случае с Византийской империей ситуация предстает не столь очевидной. Фаза надлома здесь приходится на период иконоборчества. С точки зрения протекания социальных процессов никакого противоречия не наблюдается. Империя раскололась по линии противостояния иконоборцев и иконопочитателей (монофизитов и их противников) со всеми соответствующими последствиями: аресты и убийства иконопочитателей, преследование монахов, ограбление и закрытие монастырей, конфискация церковного имущества. Что касается культуры, ее расцвет обычно относят к более позднему периоду – периоду правления династии Комнинов (со второй половины XI по XII век). Даже соответствующий термин существует – Комниновское возрождение, или Комниновский ренессанс.
Время борьбы с иконами принято считать «темными веками». Чаще анализируются культурные процессы до и после него, а в иконоборческий период констатируется некий культурный провал. Насколько это справедливо можно судить по коллективной монографии «Культура Византии. Вторая половина VII–XII в.», в которой отмечается, что «обозначение VII и VIII вв. в качестве „темных“ лишено необходимой конкретности и имеет в виду прежде всего крайнюю скудость уцелевших источников». По мнению ее авторов, «скудость свидетельств источников этой эпохи, даже сравнительно с V–VI вв., – сама по себе является доказательством пережитой империей трагедии» [118].
В монографии также отмечается, что в VIII–IX веках началось возрождение «ряда отраслей культуры – таких, как естественно-научные знания, искусство мореплавания, военная мысль, юриспруденция, светское и религиозное зодчество, прикладные искусства и т. п.» [118]. Строго говоря, этот период и относится ко времени иконоборчества. Иконопочитание было объявлено ересью на Вселенском Соборе в 754 году, а уже Константинопольский собор 842 года провозгласил необходимость восстановления почитания икон и предал анафеме иконоборчество.
Тем не менее, нельзя не согласиться с тем, что культурного расцвета европейского масштаба в этот период жизни Византийской империи мы не наблюдаем. По мнению Л. Н. Гумилева, византийский ренессанс случился раньше. «Византийская культура имела свой период „Возрождения“ эллинской древности, когда греческий язык вытеснил латинский из государственного управления (при императоре Маврикии), и свою Реформацию – иконоборчество, и свою эпоху Просвещения – при Македонской династии» [26].
Из приведенного отрывка сложно судить, распространяет ли Лев Николаевич период надлома в Византии и на VI–VII века, что сомнительно, так как противоречит другим его высказываниям на этот счет. Гумилевская датировка фазы надлома в Византии уже была приведена выше: «победы исаврийской династии и иконоборчество». То и другое датируется VIII–IX веками. Скорее всего, речь идет о проявлении соответствующих тенденций в пограничных с надломом фазах.
Расцвет арабской культуры приходится на IX–XII века. Мы помним, что развитие Мусульманского суперэтноса шло ускоренными темпами. «К X в. энергия арабо-мусульманского этноса иссякла, несмотря на то, что экономика расцвела, социальные отношения нормализовались, а философия, литература, география, медицина именно в эту эпоху дали максимальное количество шедевров. Арабы из воинов превратились в поэтов, ученых и дипломатов. Они создали блестящий стиль в архитектуре, построили города с базарами и школами, наладили ирригацию и вырастили прекрасные сады, обеспечивавшие пищей растущее население. Но защитить себя от врагов арабы разучились. Вместо эпохи завоеваний настала пора потерь» [26].
Действительно, территориальные потери были огромными, но в области науки и искусства арабы совершили невероятный скачок. Примечательно, что с трудами античных мыслителей, в первую очередь Аристотеля, Европа познакомилась благодаря переводам с арабского. Общепризнанно, что в развитии научного знания арабский Восток IX–XII веков далеко опередил современную ему Европу, а достижения арабских ученых стали основой для развития средневековой европейской науки. «Превосходство Запада над Востоком, – как заметил Георгий Владимирович Вернадский, – в смысле науки и техники – дело гораздо более позднего времени. Лишь в XVI или XVII веке можно определенно говорить о научно-техническом превосходстве Европы над Азией, причем все еще с оговорками. В более раннее время не всякий мог бы разглядеть в Европе ростки будущей культурной гегемонии» [14].
В этнической системе к фазе надлома накапливается «усталость от великих». В своем стремлении преобразовать жизнь к лучшему («Мы знаем, мы знаем, все будет иначе!») этнос идет по пути радикальных решений, так как пока еще эти пути диктуются пассионариями со всей присущей им решительностью и бескомпромиссностью. Пассионарность начинает быстро снижаться за счет гибели своих носителей во внутренних катаклизмах.
Иногда удается «сплавить таких людей за пределы страны: в Палестину, в Мексику, в Сибирь; тогда пассионарный уровень снижается, народу становиться легче, правительство может координировать ресурсы страны и с их помощью одерживать победы над соседями. Внешне этот спад пассионарного напряжения кажется прогрессом, так как успехи затемняют подлинное снижение энергетического уровня» [21].
«В эту эпоху этнос или суперэтнос живет инерцией былого взлета и кристаллизует ее в памятники искусства, литературы и науки» [24]. Благодарные потомки не устают восторгаться Венерой Боттичелли и Сикстинской Мадонной Рафаэля, цитировать Фирдоуси и Омара Хайяма, вспоминать китайских выдающихся философов и арабских математиков. Однако на место пассионариев приходят гармоничные люди и субпассионарии. Возникает эгоистическая этика, диктующая новый стереотип поведения. Система упрощается. Приближается инерционная фаза.

