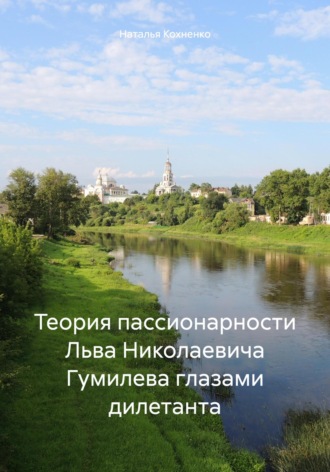
Полная версия
Теория пассионарности Льва Николаевича Гумилева глазами дилетанта

Наталья Кохненко
Теория пассионарности Льва Николаевича Гумилева глазами дилетанта
Введение
…Мы можем, подобно резвящимся глупым детям, переводить стрелки на часах истории, но возможности заводить эти часы мы лишены. У нас роль самонадеянных детей исполняют политики. Они по своему почину переводят стрелки с 3 часов дня на 12 часов ночи, а потом страшно удивляются: «Почему же ночь не наступила и отчего трудящиеся спать не ложатся?» За ответом на последний вопрос обращаются к тем самым академикам, которые научно обосновали необходимость перевода стрелок. Таким образом, те, кто принимает решения, совершенно не учитывают натуральный характер процессов, идущих в этнической сфере. И, зная пассионарную теорию этногенеза, удивляешься отнюдь не тому, что в стране «все плохо». Удивляешься тому, что мы все еще существуем.
Л. Н. Гумилев, В. Ю. Ермолаев. «Горе от иллюзий»Прошло более тридцати лет со дня распада Советского Союза. Тридцать лет по историческим меркам – срок небольшой, но иногда события так ускоряют свой бег, что между прошлым и будущим и за меньший срок образуется пропасть шириною в вечность. Мы за тридцать лет успели развалить страну, потерять миллионы населения и даже осознали иллюзорность своих представлений о «цивилизованном человечестве», в которое мечтали влиться столь дорогой ценой.
Не ко всем, конечно, пришло это осознание. Даже сейчас, после начала СВО, в России слышны голоса глубоко несчастных людей, которым, по их внутреннему ощущению, не повезло с родиной. Случилось так, что до последнего времени эта категория граждан определяла редакционную политику большей части отечественных СМИ, поэтому голоса их звучали громко, убеждая нас в том, что общество расколото. Признаки раскола мы, действительно, наблюдали и наблюдаем. Но реакция большинства населения на возвращение Крыма ясно показала, что уже в 2014 году с идеей великодержавности, способной сыграть цементирующую общество роль, россияне в массе своей расстаться не хотели или даже не могли. Это противоречило бы какому-то, плохо поддающемуся анализу, однако важному внутреннему чувству мировосприятия. Можно по-разному к данному факту относиться, но меньшинству следовало бы его принять.
Проблема заключается в другом. В каком виде эта идея великодержавности должна быть воплощена в жизнь, чего конкретно мы от этого воплощения ждем? Как она соотносится с простым человеческим желанием «жить хорошо»? Когда вы учитесь водить автомобиль, хороший инструктор вам обязательно скажет, что смотреть надо на дорогу не перед капотом, а вдаль, с перспективой; приближаясь же к повороту, – не на сам поворот, а на то место, где вы хотите оказаться после него. В противном случае рискуете приехать вовсе не туда, куда планировали, а в ближайший кювет. Так устроен человеческий мозг.
Перед нами за тридцать с лишним лет накопилась масса вопросов, от ответов на которые зависит не только то, куда мы идем согласно нашему разумению, но и то, где окажемся в реальности. Важнейший из них – кто мы? Монстр с имперскими амбициями? Народ, впитавший с молоком изнасилованной монголом праматери рабскую психологию вечного холопа? И есть ли это «МЫ» как некое целое? Если есть, то почему так легко развалились? Или в 1991 году едины не были, но уж уцелевшее – монолит.
На ряд вопросов ответы практически найдены:
– Не развалились, а нас развалили… американцы.
– Час от часу не легче! Что же это за великая держава такая – любой приходи и разваливай?
– Ну, во-первых, не любой, не передергивайте. Во-вторых, они же не сами – с помощью нашей элиты разваливали.
– Чьей-чьей элиты?
Подобные ответы обескураживают больше, чем их отсутствие. Действительно, когда политическая элита собственный народ мордует всякими оброками и барщинами, это понятно. Не мы первые, не мы последние. Но когда безо всякой причины тысячами или даже миллионами, как утверждают некоторые, она уничтожает дееспособное население, наплевав на его воспроизводство и налоги, а напоследок разгоняет этот народ по национальным углам… Нам веками этих упырей с Луны и Марса поставляют?
Давать ответы на подобные вопросы призвана наука. Но с наукой – по крайней мере, с ее гуманитарной составляющей – дела тоже обстоят все чудесатее. Еще относительно недавно советская этнология в лице Института этнографии АН СССР, впоследствии переименованного в Институт этнологии и антропологии РАН, давала сбивчивые и путаные ответы на вопросы о природе этничности, но признавала ее реальность и объективную обусловленность. Времена изменились.
В девяностые годы в погоне за соответствием «современной научной мысли», вполне дискредитировавшей себя теорией «плавильного котла» чикагской социологической школы, родные ученые перестроились настолько, что объявили (вслед за светочами западной науки, разумеется) этническую идентичность конструктом. Позже они вообще потеряли интерес к этой теме, сосредоточившись на более узких проблемах вроде политической антропологии, антропологии права, исследованиях в области миграционной и гендерной проблематики и т. п.
Все это, конечно, очень интересно и актуально, но похоже на то, как если бы мы изучали положение тел в пространстве, не опираясь на законы классической механики. Поэтому возвращение к теории этноса и понятию этничности неизбежно, так как все эти миграционные, гендерные и прочие процессы идут не в какой-то отвлеченной среде, а во вполне конкретной этнической. В нашем случае даже полиэтнической, от особенностей которой зависит очень и очень многое. И чем раньше мы осознаем необходимость этого возвращения, тем лучше для нас.
С 2010-х годов появились признаки пробуждения интереса к этой теме. Они чаще всего обнаруживались в информационном пространстве в виде политической дискуссии, но были достаточно очевидны. Так, опубликованная в «Независимой газете» (2019 г.) статья Владислава Суркова про «долгое государство Путина» и «глубинный народ» коротко, но неподдельно задела за живое российские круги самой разной политической ориентации. Даже шло бурное обсуждение, где этот народ найти и как его исследовать.
Понятие глубинного народа в статье точно не определено и сформулировано как противоположность глубинному государству. По своим характеристикам оно отсылает нас к терминологии немецкой теории психологии народов XIX века с той разницей, что «народный дух» Мориса Лацаруса и Хеймана Штейнталя характеризует нацию в целом, а в российском варианте, по мнению автора статьи, элита периодически пытается, забыв, где и кем была вскормлена, «космополитически воспарить». Но сейчас уже все хорошо, все нормализовалось, и государство Путина «адекватно народу, попутно ему, а значит, не подвержено разрушительным перегрузкам от встречных течений истории» [115].
Этими устами да мед бы пить. Тревожных звоночков было много. Уже один тот факт, зафиксированный в названии статьи, что речь шла о государстве, управление которым замкнуто на одну-единственную политическую фигуру, без прямого вмешательства которой не решаются элементарные вопросы на местах, не внушала оптимизма. Но имелось в статье и обнадеживающее начало. Уж коли речь зашла о феномене «глубинный народ», можно надеяться, что в общественный, а при благоприятном стечении обстоятельств и в научный дискурс вернется тема этноса в его примордиалистском понимании.
Мы же, стремясь приблизить это событие, предлагаем уже сейчас обратить внимание на теорию не то чтобы забытую, но изрядно оболганную и извращенную. Это теория этногенеза Льва Николаевича Гумилева. Ей и посвящена данная работа, целью которой является не доказать безупречность пассионарной теории во всех отношениях, а показать необходимость ее переосмысления в силу перспективности с точки зрения поиска ответов на актуальные вопросы современности. Вопросов этих много. Большинство из них, к великому сожалению, давно вышли из поля теоретических дискуссий. От их решения в буквальном смысле зависит жизнь каждого из нас, включая тех, кто крайне далек от желания понять природу этничности. На наших глазах рушится привычный мир, то ли открывая перед нами новые горизонты и перспективы, то ли навсегда закрывая их.
Казалось бы, какое отношение имеет теория Л. Н. Гумилева к масштабным попыткам переписать историю Второй мировой войны, битве глобалистов и антиглобалистов, мировому экономическому кризису и прочим явлениям исключительно социального, как нас уверяют, порядка? Не говоря о том, что существует масса объяснений происходящему, начиная с теории негативного отбора, лишившего нас достойных руководителей и компетентных чиновников, заканчивая заговором некоего мирового правительства. Однако на многие важные «Почему?» все эти объяснения ответа не дают.
Теория же Гумилева если и не отвечает на эти вопросы прямо, вплотную подводит нас к ответам на них. Становится понятно, почему мы никогда не вольемся в «семью цивилизованных народов» на равных правах и даже почему к этому слиянию категорически не следует стремиться. Почему потомки грозных викингов, защищая честь обиженных мигрантами женщин, не нашли более адекватного ответа, нежели демонстрация протеста в мини-юбках. Почему СССР распался, а еще недавно отсталый Китай, представитель социалистической системы, совершил экономическое чудо, которое вывело Поднебесную на лидирующие позиции в мире.
Кроме того, научное обоснование природного происхождения социального инстинкта, инстинкта коллективности – «именно коллективности, т. е. единства двух противоположных начал – группирования и разделения», благодаря которому человек «не может существовать в одиночку, а человечество не может существовать в недифференцированном (несгруппированном) виде» [127] – подводит нас к выводу, что в столкновении глобалистов и антиглобалистов проявляются не разные точки зрения на будущее человечества, имеющие равные права на существование, а противостояние системы во всем ее этническом и социальном многообразии и антисистемы, угрожающей самому существованию человечества.
При этом невозможно не заметить, что открытое заявление о себе этого глобального монстра совпало с тем моментом, когда в научном мире победил конструктивистский взгляд на этническую идентичность. Вооруженные конструктивистской теорией идеологи и политики стали активно продвигать в общественную жизнь противоестественные формы поведения, начиная с пропаганды всякого рода социальной толерантности и заканчивая насаждением того, что называют множественной, символической этничностью.
Теория Л. Н. Гумилева является инструментом, который не только помогает разобраться в происходящем сегодня вокруг нас, но и дает возможность оценить дальнейшие перспективы, даже наметить те принципы, которые могут быть положены в основу стратегии борьбы с антисистемой XXI века, питаемой неконтролируемой миграцией невиданного ранее масштаба. Кроме того, она содержит ориентиры, позволяющие нам лучше понять себя и свою историю.
Сама по себе теория этногенеза не несет идеологической нагрузки, но предоставляет необходимую мировоззренческую опору, базис для идеологии, о необходимости которой говорят уже многие. Для начала же следует показать, что раскрываемые ею представления о мире не противоречат реальности. На реализацию этой задачи и направлена данная работа. Но предварительно необходимо посвятить читателя в историю вопроса.
В отечественной науке интерес к этническим проблемам появился в XVIII веке. Этому способствовало превращение России в многонациональное государство за счет расширения ее границ и, как следствие, необходимость изучения населяющих ее народов. С этой целью Академией наук России были организованы этнографические экспедиции в Сибирь и другие окраинные районы страны. Изучение этносов проходило в естественно-научных рамках. В 1714 году в Петербурге была создана Кунсткамера, ставшая предшественницей Института этнографии, в 1845 году учреждено Русское географическое общество. В программу его исследований входило всестороннее изучение географического пространства России, ее природных богатств и народов.
Параллельно этому с середины XIX века развивалось направление исторической науки, обратившееся к объяснению развития народов. Отечественной историографии того времени был свойственен широкий исследовательский подход. Но после революции в отечественной науке получает распространение марксизм, важнейшим методологическим требованием которого становится классовый и исторический подход к национальным вопросам. В результате в Советском Союзе этнология, не успев родиться, превратилась в этнографию и, став отраслью исторической науки, сконцентрировалась преимущественно на первобытности.
Ситуация начала меняться только с середины 60-х годов прошлого века. Стали проводиться исследования, дающие возможность делать динамические сравнения, были созданы банки данных, проводилось изучение социальных групп в широком этнокультурном контексте. В это же время активизировались теоретические исследования в рамках теории этноса и в соответствии с его примордиалистским пониманием.
Примордиализм – направление в этнологии, согласно которому этничность является изначальной характеристикой человека, она объективна по отношению к индивиду и не может быть создана или разрушена искусственно. Поскольку в советской общественной науке бытовало представление об этносах как общностях объективных, но второстепенных, несравнимых по своей значимости с классами, то предполагалось, что со временем, в процессе строительства нового общества, будет происходить стирание национальных границ. Однако, несмотря на внутреннюю противоречивость такой позиции, сомнений в реальности этносов у отечественных ученых не возникало вплоть до 90-х годов XX века, когда с Запада в отечественную науку пришли новые научные парадигмы, в том числе конструктивизм.
Конструктивизм, в противоположность примордиализму, фиксирует внимание на изменчивости, ситуативности и субъективной природе этнических феноменов. Оспаривая объективность традиционно признанных компонентов этноса, конструктивисты настаивают на существовании представлений о них. Считая этнос категорией условной, они предпочитают использовать понятие «этничность»[1].
Интерес к проблеме этничности в нашей стране начал формироваться еще в начале 70-х годов, а полемика между представителями старой школы, отстаивающими объективистское понимание этноса, и апологетами западных концепций этничности развернулась с конца 80-х годов на страницах журнала «Советская этнография»[2]. Начало этой дискуссии положил доклад директора Института этнологии и антропологии АН СССР В. А. Тишкова, сделанный на заседании Президиума АН СССР в 1989 году.
Примерно в это же время с новой силой разгорелось противостояние представителей российской академической науки и Л. Н. Гумилева. Если с момента появления пассионарной теории в 60-х годах эта борьба носила внутринаучный характер, то во второй половине 80-х – начале 90-х годов она стала достоянием широкой общественности. Гумилев получил возможность отстаивать свою точку зрения на радио и телевидении, его работы издавались огромными тиражами.
Во многом интерес ко Льву Николаевичу, а заодно и к теории пассионарности подогревался его происхождением (сын Николая Гумилева и Анны Ахматовой) и трагическими обстоятельствами жизни (был репрессирован, провел в ГУЛАГе в общей сложности более десяти лет). Либерально настроенной общественности почудилось, что фигура Гумилева подходит на роль этакого знамени в борьбе с нашим «тоталитарным прошлым». Но по мере знакомства с его воззрениями пришло понимание, что выбранный объект никоим образом уготованной ему роли не соответствует. И русских с коммунистами отождествлять не желает, и события русской истории нового времени полагает трагическими, но во многом закономерными, отказываясь считать их исключительно проявлением чьего-то злого гения, и даже утверждает, что «если Россия будет спасена, то только как евразийская держава» [24].
В 1992 году Лев Николаевич уходит из жизни. Критика со стороны его оппонентов к тому времени уже приобрела массированный и крайне агрессивный характер. Многие из его читателей так ничего и не поняли, по сей день утверждая, что население США – молодой этнос, чье рождение можно отсчитывать чуть ли не от Декларации независимости. Итог – стигматизация: «талантливый популяризатор», но «антинаучно».
Итак, теория этногенеза Льва Николаевича Гумилева появилась в середине прошлого века, подверглась жесткой критике и до сих пор не принята академическим научным сообществом. Причина – ее «антинаучность». За это время путем критического анализа от антинаучной теории можно было камня на камне не оставить, но почему-то «курилка жив», а термины, введенные в оборот Гумилевым, звучат в последнее время все чаще. То и дело применительно к этносоциальным процессам встречаются понятия «химера» или «антисистема», а от «пассионарности» вообще нигде укрыться невозможно. В чем же дело? Попробуем разобраться, начав с критики.
Ее анализу посвящена статья Владимира Александровича Кореняко «К критике концепции Л. Н. Гумилева» (2006 г.), в которой автор приходит к неутешительному выводу: «…анализ истории и основных направлений критики взглядов Л. Н. Гумилева дает в общем удручающую картину» [50]. Картина поистине удручающая, но связано это с целым рядом мелочных придирок и тоном большинства критических статей, выдержанном в диапазоне от саркастически-гневного до завуалированно-высокомерного, о чем господин Кореняко не упоминает.
Например, статья «Пути околоэтнической пассионарности» (1990 г.) Виктора Ивановича Козлова, ученого-этнографа, доктора исторических наук, профессора, лауреата премии имени Н. Н. Миклухо-Маклая Президиума АН СССР и Государственной премии СССР, мало напоминает научный анализ. Статья обращена к читателям Гумилева, к тем, «кто так или иначе расположен его концепции», а целью автора является «добросовестно показать ущербность его идей» [48]. Около пятидесяти процентов текста занимают цитаты из монографии Л. Н. Гумилева «Этногенез и биосфера Земли», обильно снабженные знаками [?] и [!].
Идея Виктора Ивановича понятна, ему хотелось привлечь внимание читателя к тем противоречиям и несуразностям, которые он сам усматривал в тексте Гумилева. Применительно к людям, равнодушным к теории Льва Николаевича, этот прием мог бы оказаться эффективным. Однако речь идет о тех, кто «расположен его концепции» и, соответственно, не только с ней знаком, но и понимает ее иначе, нежели автор статьи. В такой ситуации ни вопросительные, ни восклицательные знаки, ни даже их одновременное использование продемонстрировать «ущербность идей» не могут.
Что касается непосредственно критики, содержащейся в статье, то она выглядит не слишком убедительно: когда дело доходит до субэтносов, суперэтносов и конкретных примеров, приведенных Гумилевым, В. И. Козлов замечает, что эти «рассуждения следовало бы подвергнуть более подробному критическому анализу, но для подобных, в общем-то частных, сюжетов в рамках данной статьи нет места» [48], после чего переходит к изъянам представлений Льва Николаевича о межэтнических контактах и их нравственной сомнительности. К болезненной теме нравственности мы еще вернемся, но… если эта статья – научная критика, как же выглядит публицистика?
Гораздо более содержательна статья академика Бориса Александровича Рыбакова «О преодолении самообмана» (1971 г.). В ней мы не найдем критики непосредственно пассионарной теории этногенеза, так как статья посвящена книге Гумилева «Поиски вымышленного царства» и направлена на разоблачение ошибок и несоответствий в трактовке исторических событий Древней Руси Гумилевым. Объем ее невелик, но место для мелких уколов в адрес Гумилева автор нашел. Вполне невинную мысль Льва Николаевича о месте озарения в процессе научного поиска, которое «не предшествует изучению проблемы и не венчает ее, а лежит где-то в середине, чуть ближе к началу» [95], академик Рыбаков почему-то воспринимает как проявление самомнения и нахальства, несколько раз припоминая Гумилеву его озарения, которые «очевидно, предшествовали научному поиску» [95] или даже заменяли его.
В заключительной части своей статьи «Горькие мысли „привередливого рецензента“ об учении Л. Н. Гумилева» (1992 г.) не стал ограничиваться мелкими уколами доктор исторических наук, профессор Лев Самуилович Клейн, объяснивший популярность трудов Гумилева дилетантизмом, простодушием и полуобразованностью поклонников Льва Николаевича (что отчасти верно, так как среди них встречаются люди разные, как и среди его противников) и выразивший сомнение в сохранности интеллектуального уровня Гумилева после всех испытаний, выпавших на его долю. Аргументом к этому сомнению послужили «долгие годы адаптации к уровню слушателей» во время пребывания Льва Николаевича в ГУЛАГе и широко известная история с ликбезом, который предпринял Гумилев в среде своих солагерников: «блестящее переложение одного раздела испанской истории (отпадения Нидерландов) на феню» [42].
В конце статьи автор заверяет читателей в своем дружеском расположении ко Льву Николаевичу, делает признание, что «очень не хотелось браться за эту статью», горько сожалеет, что приходится «обрушивать столь резкую критику на своего доброго знакомого Льва Николаевича Гумилева», но «это тема, которой играть нельзя» [42], ибо опасность слишком велика. Под опасностью подразумевается оправдание межэтнических конфликтов пассионарной теорией этногенеза.
Подобная тактика стала особенно популярна после ухода Льва Николаевича. Многие ученые мужи даже перестали обрушиваться с критикой на концепцию Гумилева, так как подвергать научной критике совершенно фантастическую теорию, не имеющую к науке отношения, как-то не очень солидно. Иногда ее даже ставят в один ряд с «альтернативной историей» Фоменко и Носовского. Льва Николаевича объявили талантливым популяризатором, а его заблуждения снисходительно объяснили трагизмом его жизненного пути. Интересно, что же популяризировал Гумилев, если его взгляды на историю и этногенез были насквозь псевдонаучны и даже опасны.
Во всех этих, мягко говоря, странных нападках проскальзывает столько глубоко личного, что возникает вопрос: на кого более было направлено раздражение критиков – на «антинаучную» теорию или на ее автора? Такая вот отрицательная комплиментарность[3] на индивидуальном уровне.
Но вернемся к содержательной части критики. Все критические замечания в адрес пассионарной теории этногенеза можно разделить на две неравноценные группы: критика по существу и претензии морально-этического характера. Последние менее разнообразны и в общих чертах сводятся к двум-трем позициям, но по своей убойной силе они значительно превосходят первые и способны похоронить любую теорию независимо от ее научной ценности. Самые невинные из них заключаются в нарушении профессиональной этики и использовании административного ресурса. Они представлены в вышеупомянутой статье В. А. Кореняко и состоят в следующем:
1) Вслед за статьей Л. Н. Гумилева «Этногенез и этносфера», опубликованной в журнале «Природа» (1970 г.), редакция напечатала «небольшую статью тогдашнего директора Института этнографии АН СССР Ю. В. Бромлея (Бромлей, 1970: 51–55). В ней последний изложил свои взгляды на этнос и этногенез. Он не критиковал Л. Н. Гумилева, ограничившись парой безадресных абзацев» [50]. По мнению В. А. Кореняко, «Ю. В. Бромлей по сути уклонился от критики Л. Н. Гумилева, и последнему следовало дождаться серьезного критического анализа своих гипотез или смириться с тем, что академические специалисты не горят желанием вступать с ним в дискуссию» [50], но в том же году в журнале «публикуется подборка трех положительных рецензий на статью Л. Н. Гумилева. <…> Авторы комплиментарных откликов работали в ленинградских вузах. Возникла ситуация, довольно прозрачная и, по меркам того (к сожалению, не нынешнего) времени, неэтичная. Вряд ли у кого-то возникали сомнения в том, что эта серия комплиментарных отзывов была организована в Ленинграде самим Л. Н. Гумилевым» [50].
2) По всем признакам, Л. Н. Гумилев был еще и плагиатором, так как продвигаемые им идеи о хазарско-иудейской химере впервые появились в книге М. И. Артамонова «История хазар». «Лев Николаевич был редактором этой книги. Тождество рассуждений обоих исследователей таково, что возникает мысль, не помог ли редактор автору написать "Заключение". Но репутация М. И. Артамонова как самостоятельного и продуктивного исследователя безукоризненна. Речь может идти лишь о сомнительности приоритета Л. Н. Гумилева в „иудео-хазарском сюжете“» [50]. От себя заметим, что нещадной критике за эту трактовку истории, вовсе не за плагиаторство, на протяжении многих лет подвергался именно Л. Н. Гумилев, а не М. И. Артамонов.
3) Л. Н. Гумилев пользовался покровительством Анатолия Ивановича Лукьянова, который по мере своего продвижения по политической лестнице все настойчивее продвигал его работы в печать.

