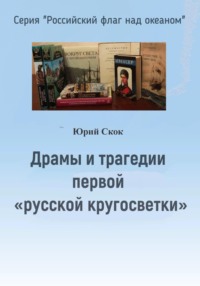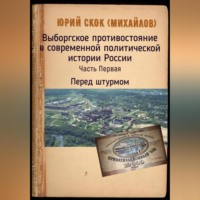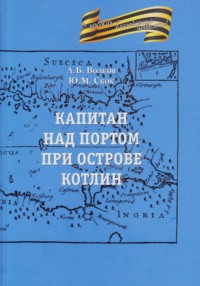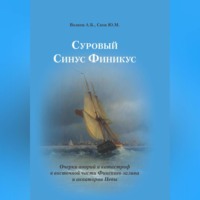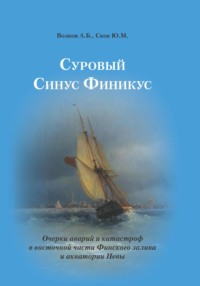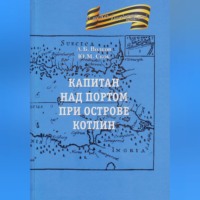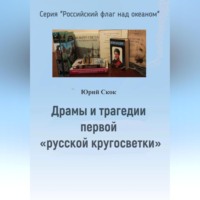Выборгское противостояние в современной политической истории России. Часть Первая. Перед штурмом
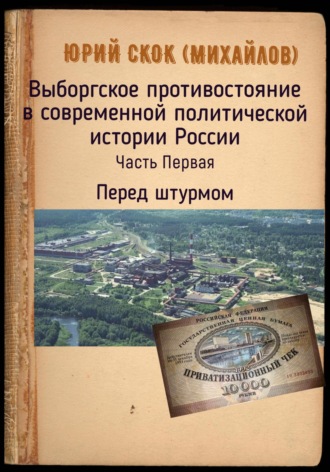
Полная версия
Выборгское противостояние в современной политической истории России. Часть Первая. Перед штурмом
Язык: Русский
Год издания: 2025
Добавлена:
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Конец ознакомительного фрагмента
Купить и скачать всю книгу