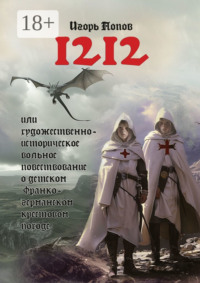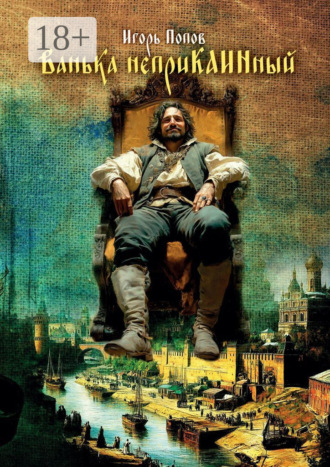
Полная версия
Ванька Неприкаинный

Ванька Неприкаинный
Игорь Попов
© Игорь Попов, 2025
ISBN 978-5-0064-9471-8
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Художественное произведение, не претендующее на подлинную историческую достоверность, но стремящееся к ней, на основе реальных документальных событий, в оригинальной авторской интерпретации
Рецензия на книгу «ВАНЬКА НЕПРИКАИННЫЙ»
Так уж получилось, что четырнадцать лет своей сознательной жизни я посвятил работе в уголовном розыске, из которых два года, будучи советником царандоя (с пуштунского – защитник, Министерство внутренних дел) в воюющем Афганистане, оказывал помощь его сотрудникам в организации агентурной работы в рядах непримиримой оппозиции. Именно поэтому мне так близка тема, изложенная в данном произведении.
Ещё на заре своей оперской молодости, в одном из номеров «Вестника ОРД», публикуемого под грифом «секретно», я прочитал небольшую статью о человеке, считавшемся едва ли не самым первым негласным сотрудником правоохранительных органов России. Будучи отпетым уголовником, он вёл двойную жизнь. Стоило ему в очередной раз попасться на совершённом преступлении, как он произносил условную фразу «слово и дело государево», и вместо того чтобы оказаться в застенках, его вели на допрос в Сыскной приказ, где он не столько каялся в собственных злодеяниях, сколько во всех подробностях рассказывал об известных ему случаях совершения преступлений другими людьми, выдавал адреса «малин», где их можно было обнаружить и задержать.
Но в той журнальной статье автор ограничился лишь упоминанием прозвища этого человека – Ванька Каин, под которым он вошёл в историю как едва ли не самый первый агент правоохранительных органов царской России. И вот теперь, благодаря этой уникальной книге, я наконец узнал реальную его фамилию – Осипов. Но не только фамилия стала достоянием широкой гласности, но и довольно сложный жизненный путь этого неординарного человека, где нашлось многое из того, по чему можно проследить весь процесс его грехопадения.
Особо следует отметить этапы жизненного пути Осипова, о которых в ранее публикуемых работах не было даже упомянуто. Автору удалось передать атмосферу того времени, в котором жил герой повествования, нравы и обычаи людей, с которыми ему доводилось встречаться, описание девственной природы и многое другое. Даже разговорная речь сохранена в первозданном виде, как она произносилась людьми двести лет тому назад.
Как профессионал сыска, могу лишь сказать, что данная книга будет интересна не только простому читателю, интересующемуся отечественной историей, но в первую очередь сотрудникам правоохранительных органов, выбравших для себя профессию оперативного уполномоченного уголовного розыска. В доступной форме, без каких-либо грифов секретности и ссылок на нормативные документы, регламентирующие оперативно-розыскную деятельность, начинающий оперативник получит необходимые навыки в особенностях вербовочной работы, являющейся первоосновой всей оперативной работы и залогом успеха в раскрытии сложнейших преступлений.
А. Воронин, подполковник МВД РФ в отставке, почётный ветеран города Астрахани, член Союза писателей России
Рецензия на книгу «ВАНЬКА НЕПРИКАИННЫЙ»
Заражённый устаревшей страстью рыться на полках букинистических магазинчиков среди подрёмывающих запылившихся фолиантов в поиске раритета, я испытал бы меньшие удивление и восторг, наткнувшись на какую-нибудь древность, нежели увидев рукопись, что недавно принёс мне приятель, а главное, автор этого поразительного произведения, которых теперь мало кто пишет, да, признаться, мало кто и читает.
Игорь Попов, как многие начинающие, заявил о себе трогательными ностальгическими эссе и рассказами о своём детстве и юности, о малой родине, но сразу привлёк внимание знатоков искренней эстетикой деревенской глубинки. Чистота восприятия окружающего мира, действенность переживаний юных персонажей подкупали и очаровывали, ибо полыхали распахнутой бескорыстной душой самого рассказчика.
От автора «Тузуклейской мозаики», так называлась та радуга красочных и сочных повествований, откровенно признаться, я ожидал продолжения чего-нибудь подобного, живописного, бунински-пейзажного, но он неожиданно-негаданно буквально ошарашил (не люблю это выражение, но иначе не подобрать, чтобы выразить впечатление), принеся вроде как для экспертной оценки и редактирования рукопись повести о сверхсекретной операции наших контрразведчиков постсоветских времён, обозначив её «художественным вымыслом, наложенным на реальные события». Не скрою, я заартачился поначалу, искал аргументы для отказа, у меня при поверхностном прочтении родилось своё видение, нашлись огрехи в тексте и построении сюжета; одним словом, возник крыловский «квартет», но Игорь жарко бился за своё, без боя «окопа не сдавал», выстраданное отстаивал. Не кривлю душой и не кокетничаю – книгу он сделал сам.
Повесть «Особисты 90-й широты», прежде чем стать литературным произведением, прошла тщательную ревизию в высоких верхах спецведомства, была одобрена и моментально разлетелась среди обретённых автором новых почитателей и знатоков уже этого жанра, ибо детективное чтиво пришлось им по душе и поглощалось, как говорится, взахлёб. Только тогда мне стали известны некоторые биографические сведения, скромно скрываемые автором. Оказывается, к тому времени, то есть к нашему близкому знакомству, Игорь Витальевич не только, окончив педагогический институт, отработал несколько лет самым молодым директором средней школы в Камызякском районе, но ещё довольно продолжительное время отслужил в местных органах госбезопасности, после чего уже подал в отставку. Естественно, он не брался бы с бухты-барахты, следуя моде или скороспелому успеху, за сложную тему, не познав на собственном опыте само дело в совершенстве, поэтому так яростно со мной и боролся, отстаивая каждую, казалось бы, мелочь. Литература такого рода, именуемая приключенческой беллетристикой, всегда пользовалась и пользуется сейчас, особенно у молодёжи, спросом и популярностью, но Игорю Витальевичу поистине удалось создать настоящий бестселлер.
Чем больше и ближе мы общались, тем полнее мне открывалась его неординарная личность. Далеко не любитель скакать по верхушкам, он изучает тему, за какую бы ни брался, тщательно и глубоко, при надобности зарывается по уши в архив, не гнушается выворачивать наизнанку возможности интернета. Ему вполне бы хватило таланта пробиться, что называется, на верха отечественного литературного мира, заявить о себе во всеуслышание, но в современных условиях при нынешнем отношении властей, как федеральных, так и местных, когда везде одно словоблудие и пустозвонство, мало, чтобы сам Господь Бог коснулся тебя дланью, Его Величество Случай подтолкнул в нужный момент. Во времена современных окололитературных баталий чистого с затхлым, давно дурно пахнущим, но несдающимся, в истинно творческом мире, только-только, вроде, пробуждающемся и освобождающемся от засилья лицемерных псевдоэлитных выскочек, надо иметь не зубы, а безжалостные острые клыки, надо уметь драться и учиться побеждать.
У быковых и акуниных были госпожи шубины, у нынешних уцелевших им подобных – десятки гораздо коварней, сильней и могущественней. Силы пока не равны, хотя появились крепкие бойцы, такие как наш Николай Иванов, выживший, несмотря на все тяжкие, Виктор Николаев. Побывавший недавно в городе лидер Союза писателей России попытался снять тревоги по грустному настоящему там и тут вокруг столицы, но сомнения насчёт оптимистического завтра не развеял. Поэтому Игорь Витальевич Попов пошёл своей дорогой, взявшись за темы вечные, значимые, неординарные, над которыми люди всегда ломали головы и мучаются до сей поры, не найдя однозначного убедительного ответа. Спешит обрести свой язык, своё слово, экспериментирует с темами, с сюжетом, героями и персонажами. Путь тяжкий, мучительный, бессонный, но необходимый для достижения Настоящего…
Едва успев завершить фантастическую повесть «Апофис 2068 и его Тайна», в которой показан «как хрупок окружающий мир и ничтожны претензии государств друг к другу перед возможностью страшной и великой трагедии, грозящей краху всей цивилизации и всему живому на планете», Игорь Витальевич издал историческое произведение «1212. Или Художественно-историческое вольное повествование о детском франко-германском крестовом походе» о событиях не менее поучительных, уже имевших место в далёком прошлом человечества, когда в период расцвета средневекового фанатизма и иезуитского ужаса тысячи подростков, одураченные безумными монахами – авантюристами и отпетыми мошенниками, вознамерились крестовым походом отправиться в Иерусалим освобождать от язычников Гроб Господень и, конечно, бесславно погибли. Мудрым предупреждением в заключение всей исторической той авантюры приведены слова известного священнослужителя: «Доверие лжесвятым и лжеизбранникам всегда оканчивается трагедией, а вера в ложные чудеса влечёт за собой жизненный крах».
Всё более и более увлекаясь стремлением постичь истину прошлого, проследить неуловимую связь его с нынешними событиями, с насущным, утвердиться значимостью личности в истории, особенно в сложные, взрывные периоды развития того или иного государства, общества, а то и всей цивилизации, Игорь Витальевич в этих и в последующих своих произведениях невольно заряжает этой страстью читателей. Ведь истина, оказывается, неоднозначное и даже довольно коварное явление. Противоречива, как это ни ортодоксально, её сущность, поражает, если забраться в самые дебри, её природа. Аксиома эта веками выстрадана людьми. Истина – это, казалось бы, в некотором роде великий идеал, в который стремились и стремятся постичь особых познаний профессионалы: математики в поисках доказательств невероятных теорем, физики, пытаясь разгадать тайны мироздания, астрономы, маракуя над космическими загадками, археологи, отыскивая достоверные свидетельства истоков древних цивилизаций и культур. И вот при всём этом каков парадокс: в человеческих, проще сказать, в мирских, обыденных отношениях ложь во имя добра ценилась и ценится дороже тысячи истин!
Надо полагать, Игорь Витальевич вполне осознал это, когда взялся работать над той самой книгой, рукопись которой вручил мне на прочтение, о чём я упомянул в самом начале настоящего экскурса в его литературное творчество. Рукопись именовалась «Ещё раз про Ваньку Каина».
Чем мог заинтересовать его вор и разбойник, крепостной без рода и имени, затесавшийся в анналы истории и архивы криминалистики Российской империи XVIII века сын Осипов, прозванный Ванькой Каином? Даже в популярном детском мультике проказница Шапокляк авторитетно категорична: «Хорошими делами прославиться нельзя». В анналах истории подтверждений этому не счесть. «Все исторические народы в силу законов нравственной преемственности в большей или меньшей степени сохраняют память о прошедшем своей страны», – мнение известного историка и писателя дореволюционной России Даниила Лукича Мордовцева. О событиях, имевших роковое для неё значение, и о лицах, с именем которых связаны наиболее выдающиеся явления прошлого. Но в этом случае поражает одна неизменная черта у всех народов: народная память почти исключительно останавливается не на светлых рельефах прошлого, а на его тенях – «моровая язва», «злая татарщина», «лихолетье», «московский пожар», «первая холера» и т. д. Точно так и по отношению к выдающимся людям, народная память останавливается не на светлых личностях, а на тех, которые своими страданиями купили себе право на народную память о них «несчастненьких». Историк называет шесть таких имён: это Стенька Разин, Ванька Каин, Гришка Отрепьев, Маришка-безбожница, Ивашка Мазепа и Емелька Пугачёв. Церковь в своё время придала их анафеме, земля, якобы, не принимает их души на вечное успокоение. Нет греха пуще и наказания суровей. Но чем заслужил такую жестокую и беспощадную участь Иван сын Осипа? Похлеще его знаменитые в злодеяниях заплечных дел мастера, сбежавшие с государевой службы и Стенька Разин, и Емелька Пугачёв, утопившие многострадальную Русь в крови обманутой ими бедноты обещаниями воли, земли и богатств. Иван сын Осипа рук своих кровью людской за свою, пусть и шальную, жизнь не замарал. Да и была ли она беспутной, лишённой смысла и зря прожитой? Красть крал, но у богатеев ему ненавистных, больше по острой нужде или ради баловства, с издевательскими выдумками, грабил отпетых захребетников, наживавших несметные богатства на труде крепостных. Его криминальные похождения скорее походили на хитроумные проделки над зарвавшимися, нещадно обдирающими простой люд беспредельщиками в обличии почтенных обывателей.
Во времена царствования Елизаветы произошло вовсе неординарное событие, сыгравшее значительную роль в мировой истории сыскного дела не только нашего Отечества, но и многих европейских держав. Добровольно сдавшись властям, Иван сын Осипа предложил свои услуги в розыске и задержании уголовных преступников, карманных воришек и авторитетных воров, кровавых налётчиков и злодеев, руководящих многочисленными бандами, кишмя кишащими в Москве. Жители столицы уже днём с опаской ходили по улицам центра, а к вечеру страшились бывать на окраинах и в глухих местах. Ивану выделили специальную команду из солдат и полицейских чиновников.
Успех нового сыскного подразделения, которое он сам и возглавил, превзошёл все ожидания. Москва заметно очищалась от воровского засилья, население возрадовалось, ощутив благость беззаботного жития без страха и прежних опасений за собственное здоровье и кошелёк, возродились торговля и гуляние граждан с детьми на улицах. Заслуга покаявшегося грешника была очевидна, и Сенат оценил это – Ивану простили все прошлые провинности и преступления, выразили благодарность и специальным документом назначили на ответственную должность в Сенатский сыскной приказ. Несколько лет после этого Иван руководил работой созданного им специального секретного подразделения, зачистившего столицу от оголтелой преступности, врагов – атаманов и банд не боялся, повадки их знал, поэтому операции по отлову и изоляции организовывал смело, умело и успешно.
Следует заметить, именно его этот невероятный опыт организации борьбы с преступностью силами самих бывших уголовников был по достоинству оценён многими сыскными службами не только в Европе, но и во всех подобного рода силовых структурах мира. Спустя несколько десятилетий подобный эксперимент был повторен во Франции. В начале XIX века покаявшемуся известному вору и каторжнику Эжену Франсуа Видоку доверили подобное после того, как он обещал не справлявшимся властям и полиции очистить от преступников погибавший от их засилия Париж. Создав из уголовников, подобно нашему Ивану, секретную службу сыска, Видок скоро справился с задачей и в качестве вознаграждения был назначен начальником этой тайной полиции, названной французами «Сюрте» (Sûreté), успешно действующей и поныне. Во славе обретя знаменитость навеки, Видок в достатке дожил до беззаботной старости, написал и издал книгу воспоминаний, ставшую учебником жизни для юнцов и профессиональным справочником для сыщиков.
Наш Иван сын Осипа сгинул бесславно в неизвестности. Где и как это произошло, где покоятся его останки – никто не знает (возможно – в Забайкалье). Последним его пристанищем считается одно из жестоких каторжных мест царской России той поры – Рогервик, «ржаной остров» со шведского, самый страшный лагерь смерти, расположенный в тогдашней Эстляндии.
Вот вам две судьбы двух одиозных личностей, вошедших в истории разных стран с одного чёрного входа. И в рукописи Игоря Витальевича, мне кажется, удалось найти ответ на вопрос, почему его, человека далёкого от криминальных, довольно чёрствых, жёстких проблем, привлекли тема и личности такого рода, как эти две персоны. Но объясняться я не собираюсь, попробуйте понять и прочувствовать это сами, только обязательно дочитайте последнюю главу.
В. Белоусов, прокурор, председатель областного суда в почётной отставке, писатель
Глава 1. Залив смерти Рогервик – каторжная вотчина «мемуариста» Ваньки Каина
Со шведского Рогервик – «ржаной остров», милое название самого страшного лагеря смерти Российской империи в XVIII веке, расположенного в Эстляндии, новой территории, занятой русскими войсками в 1710 году. Одноимённый залив закрыт от почти всех ветров, кроме северных и северо-западных, и поэтому почти никогда не замерзает зимой, получается идеальная стоянка для флота – что ещё нужно для долгосрочной военной стратегии? Великий царь Пётр Первый после личного замера глубин залива – достаточно ли будет для прохода тяжёлых военных кораблей – в 1715 году повелел соорудить в Рогервике порты для военных и купеческих судов, а также построить Адмиралтейство, верфь и город. С неспокойным соседом Швецией велась в то время Великая Северная война за господство на Балтийском море, а посему нужен был крепкий форпост вблизи его вражеских границ.
Отговаривали царя-батюшку люди учёные от этого непродуманного шага – «потому что в ней (гавани) нельзя устроить по причине широты бухты крепости, и флот поэтому не будет иметь никакой защиты от неприятеля со стороны моря». Но упрямым был самодержец, слушал всех, да делал по-своему. От ветров северных направлений, злобных и холодных, приказал Пётр насыпать каменный мол от середины острова Малый Рооге до материка – а это почти три версты. Насыпать руками, стало быть, добыть камень в каменоломнях, имевшихся поблизости, и на тележках складировать оные в пучине морской, куда царёвы слуги прикажут. 20 июля 1718 года царь закатал руку правую по локоть на камзоле и метнул со всей своей силою богатырскою гладкий булыжник в залив, сказав при этом громогласно: «Порту Рогервик – быть!» – и осенил себя крестным знаменем.
А кто мол строить будет, кто камень ломать будет? Не вельможи же столичные и купечество славное, их дело на благое дело мошной тряхнуть, если власть принудит, конечно, и даже не крепостные – они при барине в имениях навечно приписаны либо на войне сражаются. Так где же руки сторонние взять? И вот уже в 1722 году в Рогервике была построена каторга, что очень быстро для того медленного века. Ссылать туда и использовать труд на строительстве мола Пётр приказал в основном старообрядцев, издав при этом два указа: «О ссылке в Рогервик не хотящих брить бороды и не имеющих, чем заплатить штрафа» и «О посылании раскольников вместо Сибири в Рогервик на вечную работу».
Работа каторжников была наитяжелейшей – гружёные клети-ряжи с камнем сбрасывались в море, на глубину до 15 метров, но при сильном шторме, коих было здесь превеликое множество, волны быстро уничтожали скорбный каторжный труд. Этот сизифов труд продолжался ежесуточно, заключённые ломали камень, тащили его на тележках к морю, кидали с возвышенностей, как писал свидетель этого зрелища, «дабы сделать от берега до острова каменную широкую плотину, которую они назвали „мулею“… Не успеет подняться большая буря, как в один час разрушит и снесёт всё то, что лет в пять накидано было».
В 1725 году царь Пётр Первый скончался и гавань перестали строить – кроме императора никто из власть держащих деньги на Богом забытый Рогервик тратить не желал. Да и к тому же сам помазанник Божий в последних указах повелел освободить всех каторжных в империи, кроме убийц и грабителей, – чтобы они истово молились за здоровье царя. Увы, не помогло, да где их сейчас сыщешь!
Дочь Петра Великого императрица Елизавета решила лично посетить Рогервик в 1746 году, после сенатского доклада, что «кроме мастеровых 10 человек никого нет… строение не производится, плиты …от мокроты и ненастья пришли в негодность, а мол, сделанный тяжким трудом каторжных невольников, почти весь под водою».
Вместе с ней отправились в поездку великие князь и княгиня, будущие правители Пётр III и Екатерина II.
Впоследствии Екатерина Алексеевна «закончила Рогервикскую работу», переименовала город в Балтийский порт и разрешила селиться в нём простым обывателям. То, что юная Катенька увидела печальное зрелище и физически страдала, можно прочитать в её записке. «От этого путешествия мы все необычайно натрудили себе ноги. Почва этого местечка каменистая, покрытая густым слоем мелкого булыжника такого свойства, что если постоишь немного на одном месте, то ноги начинают увязать, и мелкий булыжник покроет ноги. Мы стояли здесь лагерем и должны были ходить из палатки в палатку и к себе по такому грунту в течение нескольких дней; у меня ноги болели потом целых четыре месяца. Каторжники, работавшие на моле, носили деревянные башмаки, и те не выдерживали больше восьмидесяти дней».
Ко времени посещения Рогервика царской комиссией к 1617 местным злодеям из всех темниц империи сюда были переведены 110 убийц, 169 воров-рецидивистов и 151 человек осуждённых к вечной каторге. 37-летняя императрица Елизавета, в душе обычная жалостливая баба, после этой тяжёлой поездки дала себе клятву не казнить смертью лютой своих подданных, что делала её жестокая предшественница Анна Иоанновна, которая издавала соответствующие указы. Елизавета видимо думала, что работа в каменоломнях гуманнее топора и виселицы. Право, неизвестно ещё, что лучше!
Средний срок жизни заключённого в Рогервике составлял менее трёх месяцев, делая из крепкого жилистого мужика средних лет – дряхлого немощного старика. Таким образом, смертельный приговор имел отсрочку в несколько недель, и вместо орудий убийства – тележка с камнем. Учёный и бытописатель Андрей Тимофеевич Болотов, нёсший там сторожевую вахту в 1755 году, охраняя осуждённых на строительство порта Рогервик, вспоминал, что «каторжных водили на работу окружённых со всех сторон беспрерывным рядом солдат с заряжёнными ружьями; жили они в казармах, окружённых частоколом, все закованные в железные кандалы, а некоторые – в двойные и тройные, и было их на тот момент тысячи». А ещё он вспоминал: «никакой полк охотно туда не хаживал, ибо никому не хотелось иметь дело с одними каторжными. (…) Те, которые имел более достатка, пользовались и тут некоторыми множайшими пред другими выгодами: они имели на нарах собственные свои отгородки и изрядные каморочки, и по благосклонности командиров не хаживали никогда на работу. (…) Смотрение и караул за ними бывает наистрожайшими, но инако с сими злодеями и обойтись не можно».
В феврале 1756 года в Рогервике появился новый заключённый, о злоключениях которого недобрая слава по всей империи гуляла да народ смирный и богобоязненный пугала. Масштабом злодейств, конечно, не Емелька Пугачёв или Стенька Разин, но по подлости слов и дел своих превосходил их кратно. Так те за народ простой страдали, были, что называется идейными, а этот шкуру свою дражайшую спасал, озорничал и бесчинствовал, теша душу свою подлую ненасытную.
Привезли его под конвоем из десяти бывалых солдат, распределённых на трёх санях, запряжённых рослыми и исправными лошадьми гнедой масти. Лица конвойные суровыми напоказ только любопытным делали, а сами улыбались в усы да подмигивали конвоируемому, едущему в головных санях. Когда все спешились, один из служивых наклонился к его ногам и быстрым движением закрыл на замок поножи – ножные цепи, состоящие из колодки и кандалов, до этого бывшие ослабленными, дабы неудобств и боли арестанту не причиняли, хотя на его ногах были яловые сапоги носом вверх, так не любимые покойным Петром Великим. Арестант, к которому было столько внимания, осмотрелся кругом, поправил бренчащие цепями кандалы на руках и во всё лицо улыбнулся. Было ему 42 года, выше среднего роста, худощавый, из-за бороды выглядел старше, с вырванными ноздрями и выжжеными тавром буквами ВОР на лбу и щеках. Смотрелся неизмождённым, несмотря на дальнюю дорогу, на плечах довольно крепкий полушубок, на голове диковинная монгольская шапка-малахай с большими ушами и спадающим сзади хвостом волка.
Старший конвойный офицер построил своих гвардейцев возле саней в одну линию и стал готовиться к передаче узника тюремным властям каторги. Время шло, но никто к ним выходить не желал, большие деревянные ворота были закрыты, «где шляются дозорные, растуды их туды!» Офицер был в накинутом тулупе, февральский ветер с залива не особо тревожил его, а вот рядовой состав начал страдать, суконная шинель зимой так себе защита от мороза. Наконец массивные ворота открылись и к ним вышел сам полковник Любрас, отпрыск славного шотландского рода, соратник самого Петра Великого, в сопровождении двух тюремных офицеров. Старческим шагом подошёл к старшему конвоя, по-отечески приобнял его и спросил:
– Что за птицу привезли?
Офицер ответил, вытянувшись в струну:
– Трофим Грачёв я. Привёз опасного государева преступника Ивана Осипова Каина. Вот его дело, – и он протянул Любрасу увесистый томик документов.
Полковник взял в руки дело Каина, чертыхнулся, что забыл пенсне, и медленно подошёл к арестанту.