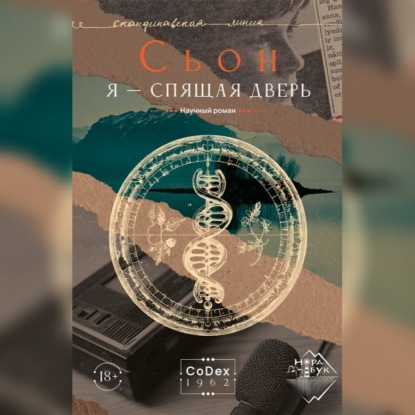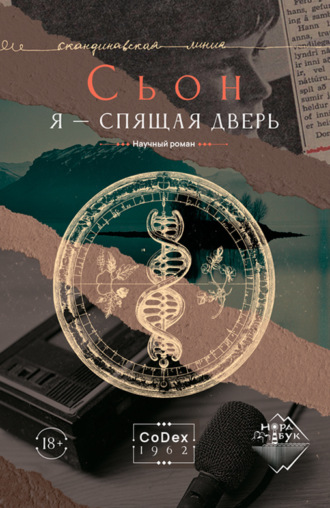
Полная версия
Я – спящая дверь
– …десять тысяч йен… пятнадцать тысяч крон…
Волна плещется о ржавые рельсы, что тянутся из сарая к воде. На них всё еще стоит тележка, полуразвалившаяся под тяжестью «Бúртны»[14] – отцовской прогнившей гребной лодки. В детстве и юности он с отцом и тремя братьями ходил на этой лодке ловить рыбу, в первый раз – светловолосым пятилетним мальчуганом, в последний – уже взрослым двадцатичетырехлетним интерном. В тот день они вдвоем гребли по озеру, и он, недавний выпускник мединститута, понятия не имел, что делать, когда весла вдруг выскользнули из отцовских рук и безвольное тело мягко повалилось в объятия сына – скоропостижная смерть.
Но даже своим уходом старик превзошел всё, что Хроульвуру когда-либо удалось достичь в жизни: он умер там, откуда открывался вид на место сбора старейшего тинга, на скалу Лёгберг[15] и развалины землянки Снóрри Стýрлусона[16]. Это носило налет историчности и перекликалось с выполнением жизненного предназначения, что стало главным лейтмотивом некрологов об отце – писателе, телеведущем и депутате парламента от партии социалистов, который всегда и во всем ставил свободу страны и народа превыше себя. И вот теперь гниющая лодка стояла как укор, как напоминание обо всех тех часах, которые Хроульвур обещал провести вместе с младшим сыном, конопатя ее, крася и снова спуская на воду, а вместо этого мотался по миру, продавая «заложенное в генах исландцев северное сияние».
– Десять тысяч крон…
Он снова делает глоток, чуть меньше предыдущего, а затем добавляет тоном, предназначеным отсутствующему собеседнику:
– Здесь я стал тем, кто я есть…
Замолчав, генетик бросает взгляд на стоящее рядом с бутылкой записывающее устройство. Это старенький «Nоrelco 95», который он приобрел в субботу, двадцать пятого сентября тысяча девятьсот семьдесят шестого года, – за день до того, как приступил к работе в неврологическом отделении медицинского центра Чикагского университета. Техническое новшество было едва ли по карману молодому студенту, жившему на скромный учебный кредит, но Анна, его тогдашняя (и первая) жена, настояла на приобретении, зная, что он всё равно не успокоится, пока не заполучит этот «ручмаг», чтобы почувствовать себя на равной ноге с главным врачом отделения. Персонал ниже рангом Хроульвуру был до лампочки, не говоря уже о собратьях-студентах, он всегда примерялся к людям на самой верхушке – месту, которое однажды намеревался занять сам. В ту субботу они на поезде доехали до Логан Сквер и в магазине «Abt's Electronics» купили диктофон. Анна и глазом не моргнула, когда он выбрал самый дорогой. Он частенько вспоминал, как легко она его читала, как незаметно, с помощью нехитрых уловок ей удавалось подготовить его к новым ситуациям и удержать от ссор с людьми, не умевшими отличать его научный пыл от агрессивности. В идеальном мире после их развода она бы приняла приглашение стать его секретарем.
Генетик нажимает на кнопку записи и, подтянув аппарат поближе к себе, убеждается, что микрофон направлен в его сторону. Легкое поскрипывание кассеты подстраивается под жужжание последних вечерних мух. Вдалеке посвистывает золотистая ржанка. Словечко «ручмаг» – его собственное изобретение.
– Звук, который здесь слышится, – это трение диктофона о столешницу…
Прокашлявшись, он продолжает:
– Здесь я стал тем, кто я есть сегодня… В этом самом месте, чуть на восток от Сандэй…
Он указывает на озеро в сторону острова.
– Обычно к середине июля там скапливаются огромные косяки арктического гольца, крупного, весом в один, полтора и даже в два килограмма, и семья моего отца, пока жила здесь, в небольшом хуторке, в поросшей лесом долине Блáускогур, каждое лето ловила его сетями. После того как хозяйство заглохло окончательно и последнее поколение перебралось в город, мой отец был единственным, кто сохранил обычай «ходить за гольцом». Так он называл свои поездки за рыбой. Это не были помпезные туристические рыбалки, так популярные сегодня у вскормленных на молоке управляющих средней руки, которых тошнит от одной мысли съесть то, что сопровождающий гид приманил мушкой на их крючки, и мы с братьями, один за другим, присоединялись к отцу, дорастая до нужного умения и сноровки…
Сделав глоток, генетик бормочет себе под нос:
– Двенадцать тысяч крон…
Затем продолжает прежним голосом:
– Итак, я стал тем, кто я есть сегодня, в моем самом первом «походе за гольцом». Когда мы догребли до косяка у восточной оконечности острова, мне было поручено сидеть на носу и руководить всем процессом. Я был очень горд, что папа доверил мне, самому младшему члену команды, такую ответственную работу, а заключалась она в том, что я, тыча пальцем на воду, беспрерывно вопил: «Рыба, рыба!», – в то время как отец и старшие братья затаскивали сеть в лодку. Насколько удачным был тот выход на озеро, сказать трудно, но в моей памяти отложилось, что рыбы было много, очень много. И когда из ячей вывалили серебрящуюся, отчаянно извивающуюся на дне лодки массу, я с ужасом взвизгнул, отдернув от нее ноги. Тогда я впервые увидел, как живой голец борется за жизнь, до этого мы с мамой всегда ожидали отца и братьев на берегу, у лодочного сарая, и когда те выносили улов на берег, все рыбы в нем уже были мертвы.
Братья, посмеиваясь над моими визгами, достали перочинные ножи и точными отработанными движениями принялись «пускать кровь»: вонзали остро заточенные кончики лезвий в верхнюю часть жабер, а затем тянули разрез до самого горла. Рыбу никогда не оглушали, головы должны были быть совершенно целыми, чтобы сохранился их «настоящий» вкус, когда на следующий день после возвращения в город в нашем доме на мысе Лёйгарнес[17] собиралась вся родня из Блаускогура на традиционное отцовское «головное застолье».
Я бросил взгляд на папу: он сидел на корме с зажатой в уголке рта «сигаретой рабочего класса Болгарии» – своим неизменным «Ударником» – и невозмутимо сворачивал сеть. Его молчание и горьковато-сладкий аромат голубого дымка, донесшийся ко мне легким дуновением ветра, подействовали успокаивающе, и я прекратил нытье, хотя к тому времени рыбины уже не просто извивались на дне лодки, а извивались в собственной крови. Пока мы гребли обратно к берегу, подергивание хвостов у моих ног становилось всё реже, и я набрался храбрости и взглянул на эту кучу умирающих рыб с дрожащими жабрами и внезапными предсмертными конвульсиями. Все они выглядели совершенно одинаково, и под ритмичный всплеск весел по воде мне тогда подумалось, что в этом кроется объяснение тому, как…
* * *– Сейчас на записи слышится, как он подтягивает к себе бутылку, открывает ее, снимает со стола, наливает из нее в стакан, затем снова закручивает пробку, ставит бутылку на стол, отодвигает ее и берет в руки стакан…
– Точно! А я знаю, что это за звук! Там рядом пролетают лебеди! Характерный свист крыльев и курлыканье…
* * *Генетик прислушивается к песне летящих над озером лебедей, позволяя виски оставаться во рту до тех пор, пока птицы не исчезают из вида у мыса Рёйдукусунес. Тогда у него начинает щипать язык и он глотает:
– Одиннадцать тысяч крон…
Снова отпивает и снова бормочет:
– Тринадцать тысяч…
Отставив в сторону стакан, он откидывается на спинку стула и потягивается до хруста в лопатках и ключицах. На чем он остановился в истории с рыбой? Ах, да!
– Голец…
Но вместо того чтобы продолжить, генетик резко замолкает, выпрямляется на стуле, расправляет плечи, быстро проводит пальцами по коротко стриженным белоснежно-седым волосам, поглаживает заросшие седеющей щетиной щеки, оглядывается вокруг, хлопает в ладоши, сжимает и разжимает кулаки, пока, наконец, не понимает причину своего состояния: его ладоням и пальцам не хватает прикосновения к поношенной узловатой коже мяча для регби, которым он привык поигрывать каждый раз, когда ему нужно было что-нибудь глубоко и свободно обдумать, – потирая его, раскручивая на пальце и перекидывая из руки в руку, что помогало удерживать тело, этот стареющий мешок с костями, в мире приземленной динамики, в то время как его внутренний человек мог оторваться от низменной обыденности и взлететь в вышину, где разум является доминирующим законом природы.
Опустив взгляд на руки, генетик мысленно рисует очертания мяча в пространстве между ладонями – в соответствии с их положением и изгибом пальцев: итак, что он собирался сказать?
Он бросает воображаемый мяч в трухлявый остов лодки: в чем заключается мораль его истории?
Мяч, бесшумно ударившись о борт лодки, отскакивает от шелушащейся краски, где ветер и непогода стерли всё, кроме последних трех букв названия:.. RNA. Так что же в том походе за рыбой пятьдесят пять лет назад сформировало его таким, какой он есть сегодня?
Генетик ловит отскочивший от борта мяч, и в его голове возникает искаженное название исландской книги: «Рыба всегда одна»[18]. Однако он всё еще не может облечь в слова то, что ему, малолетнему ответственному за улов, подумалось тогда, в момент созерцания окровавленной груды на дне лодки, где все рыбины были абсолютно одинаковы, несмотря на разницу в размерах и оттенках чешуи (как три его брата, о которых все твердили, что они были точными копиями одного человека, их отца, в то время как сам генетик был больше похож на мать), и когда он, наконец, нашел объяснение привычке отца всегда говорить о рыбе в единственном числе, в то время как было очевидно, что имелось в виду множество. Да, будущий депутат-социалист никогда не говорил о рыбах в озере Тингватлаватн во множественном числе – по той же самой причине, по которой никогда во множественном числе не говорил и о людях. Ровно как всё человечество носило имя Человек, все рыбы были одним существом – Рыба, Голец, Форель и так далее. Впрочем, дальше аналогия не шла, так как в отличие от Рыбы, способной идеально существовать как по отдельности, так и множеством, Человек был поражен индивидуализмом, который отличал его от всех других земных тварей, – ему было свойственно патологическое сопротивление инстинкту ставить коллективные интересы выше собственных, делить поровну с другими всё приобретенное, не брать себе больше, чем необходимо, и вносить вклад в общество по самой высшей мере своих способностей. Таким образом, появление Сознания развратило Человека, поскольку у любого дара есть негативная сторона, а негативной стороной Сознания была Власть капитала.
Опрокинув в себя виски на шестнадцать тысяч крон, генетик фыркает:
– Черт побери, как я мог рассуждать в свои пять лет!
* * *– На самом деле на кассете сначала долгое-долгое молчание, заполненное пением птиц, плеском воды и шелестом листьев, а в конце генетик произносит эту единственную фразу: «Черт побери, как я мог рассуждать в свои пять лет!»
* * *И снова летняя ночь, и снова молчит мужчина. И мнет в руках пустоту. Если в тот далекий день он и постиг какую-то правду, она заключалась не в том, что рыба в массе своей была безупречным социалистом или сырьем для супа из голов, нет, ближе всего он приблизился к пониманию «большой истины», когда отец пересел с кормы в центр, взялся за весла, развернул лодку в воде так, что солнце скрылось у него за спиной, и взял курс к губе, к лодочному сараю, к тому месту, где сейчас, почти шесть десятилетий спустя, сидит его младший сын и с содроганием вспоминает внезапно пробивший его озноб, когда отцовская тень упала на коченеющих гольцов и на него самого, съежившегося на кормовой банке. Тогда он подумал, что, пока есть кто-то один, достаточно большой, чтобы покрыть всех своей тенью, не имеет значения, единичны или множественны Человек или Рыба, едины они или разрозненны…
Впрочем, этот вывод генетик не мог предложить журналу в качестве ответа на вопрос, что сделало его, одного из пяти самых известных людей Исландии, тем, кто он есть сегодня. Нет, поворотным моментом в его жизни стало совсем другое событие.
В конце июня тысяча девятьсот шестьдесят второго года тринадцатилетний Хроульвур возвращался из культпохода с работниками Рейкьявикского рыбоморозильного завода, где он тогда подрабатывал. В тот день они сходили на вечерний сеанс «Пожирателя женщин»[19], в котором безумный ученый, доктор Моран, с помощью отпрыска амазонских тропиков, барабанщика Танги, скармливал молодых женщин плотоядному дереву, а из выделившейся при этом смолы изготавливал лекарство, способное воскрешать мертвых. Возле дома, в припаркованном у крыльца зеленом русском джипе «ГАЗ-69», или попросту «Козлике», сидели его родители. Они уединялись в машине каждый раз, когда, по их словам, им нужно было обсудить дела. Ни отец, ни мать никогда бы не признались, что между ними случались ссоры, но братья уже были достаточно взрослыми и замечали, как эти «обсуждения» расстраивали родителей и как всё чаще один из них еще долго оставался в машине после разговора.
Хроульвур почувствовал, как внутри у него всё сжалось, и спрятался за соседним гаражом. Из своего укрытия сквозь запыленное заднее стекло внедорожника он видел силуэт матери, в сжатых кулаках она комкала раскрытую газету и тыкала ею в лицо мужа. Силуэт отца твердо высвободил газетный лист из рук матери, после чего обнял ее и прижал к себе. Спустя продолжительное время она мягко отстранилась от него и вытерла лицо ладонями. Водительская дверь открылась, отец обошел капот, помог жене выйти из машины и подняться по ступенькам крыльца. Когда они вошли в дом, будущий генетик, помедлив мгновение в нерешительности, подбежал к «Козлику» и неслышно в него забрался.
На полу машины валялась помятая «Утренняя газета» – рупор политических оппонентов отца, лживая тряпка, строго-настрого запрещенная в их семье – и первой реакцией Хроульвура было наивное предположение, что ссору спровоцировала мать, принеся газету домой. Он разгладил бумагу. По всему развороту крупными буквами тянулась надпись:
Снотворное средство «Талидомид» – причина врожденных физических дефектов у тысяч детейСтатью сопровождала фотография двух новорожденных – мальчика и девочки. Они лежали на спине на белой простыне, слегка скособочившись на одну сторону и со склоненными в ту же сторону головами, как часто случается с младенцами, когда их укладывают позировать для фотографии, но вместо рук и ног у них были крошечные культи, а на культях – маленькие плавники, каждый с несколькими пальчиками, больше похожими на перья или бахрому. Один из детей зажмурил в плаче глаза, у другого на лице застыло удивленное выражение.
Две недели спустя мать неожиданно уехала в Данию – на операцию на ноге…
Генетик, подняв стакан, смотрит сквозь виски на озеро и остров Сандэй, сияюще-черный в лучах ночного полярного солнца:
– Тринадцать тысяч…
III
Детство
(27 августа 1962 года – 3 сентября 1972 года)
6Голос генетика глухо отдается в динамике:
– Тринадцать…
Ухоженная женская рука поднимает диктофон с журнального столика в гостиной Йозефа Лёве и длинным, покрытым синим лаком ногтем нажимает кнопку, из-за чего запись спотыкается и икает на последнем слове:
– … тыу-сиач…
В воцарившейся тишине женщина разглядывает задремавшего напротив нее человека: он, скособочившись, полусидит, подоткнутый для поддержки позвоночника грудой больших вышитых подушек, в то время как могучая диванная спинка нависает над ним словно коричнево-вельветовое крыло матери-лебеди, оберегающей лежащего в гнезде птенца.
Впрочем, на лебеденка он похож меньше всего. Это мужчина средних лет, слегка пухловатый, буднично одетый в красно-клетчатую фланелевую рубашку, просторный свитер болотного цвета с V-образным вырезом, широкие светлые брюки цвета хаки, коричневые носки и войлочные тапочки. Лицо гладкое и безбородое, коротко подстриженные, с проседью волосы уже редеют на макушке, округлая голова склоняется набок между ключицей и плечом, бледные руки лежат на коленях – не расслабленные, а напряженно-жесткие – как у куклы чревовещателя. На первый взгляд это самый обыкновенный человек, заснувший в неудобной позе у себя на диване, но глазу не нужно долго задерживаться на Йозефе Лёве, чтобы понять, что скрывается под его позой, одеждой и прической. Выпуклые шишки на лбу, челюстях и темени придают его черепу странную форму, покрывающая их кожа туго натянута. Такие же наросты, только крупнее, можно различить на его руках, грудной клетке и ногах.
Уже не в первый раз он засыпает вот так, под наполненный молчанием монолог из Ти́нгветлира. Женщина часто проигрывает для него запись с голосом генетика. Ей кажется, что Йозеф имеет полное право услышать рассуждения человека, по заданию которого она берет это интервью.
А звуки летней исландской ночи убаюкивают…
* * *САЧОККогда Хроульвур Зóфаниас Мáгнуссон был мальчишкой и жил на мысе Лёйгарнес, каждому жителю Рейкьявика было известно, что в переулке Фишерсюнд есть «хóру-кáсси»[20].
Никто из его друзей толком не знал, что такое хора и чем эти хоры занимались там, в своем ящике, – разве что занимались они этим, стоя или сидя на нем, – однако само слово, составленное, во-первых, из какой-то ужасной персоны женского пола (до этого они додумались сами[21]), а во-вторых – из материала для строительства голубятен, было окутано такой тайной, что коротенький переулок, соединявший центральную часть города с западной, стал абсолютной запретной зоной: никто туда и носа сунуть не решался.
Лишь самые храбрые отправлялись в центр специально с целью расследования, однако все женщины, которых они видели в окрестностях Фишерсюнда и пристально изучали с безопасного расстояния в надежде разгадать природу явления «хора», оказались настолько похожими на их собственных матерей, сестер, теть и даже бабушек, что вывод пришел сам по себе: хоры эти либо в голове чем-то отличались от обычных женщин, либо у них был какой-то физический дефект, спрятанный под одеждой. О последнем пацаны даже думать боялись, особенно после того, как докторский сын выдвинул идею, что хоры эти могли быть с обоими «инструментами».
В те годы магазин «Золотая рыбка» был единственным местом в Рейкьявике, где продавалась декоративная живность для аквариумов. Хроульвуру шел одиннадцатый год, и у него был, как это называли в семье, рыбный сдвиг по фазе. В его комнате громоздились три аквариума – на тридцать, шестьдесят и сто двадцать литров, а всё свободное пространство на полу, книжных полках и подоконниках было заставлено множеством разнокалиберных мисок и банок из-под варенья для нереста и отсадки мальков. Поэтому переезд магазина с улицы Лёйгавегур в Фишерсюнд поставил его в весьма затруднительное положение.
Рыбок Хроульвур разводил на договорных условиях: либо он сам заботится о них и сам всё финансирует (что он и делал, разнося по домам газету социалистов «Народная воля» и продавая на улицах журнал «Неделя»), либо его рыбное предприятие отправляется прямиком в унитаз. Дважды, притворившись больным, ему удалось уговорить отца зайти в магазин по дороге с работы и купить корм и специальную растительность для размножения гурами. В третий раз он упросил девчонку старшего брата помочь ему с покупкой фильтров для аквариума с гуппи, наплетя ей, что его якобы задирали местные хулиганы, ошивавшиеся в конце переулка, у стоянки «Такси Стéйндора». Посылая ее в такую ужасную клоаку, каким, конечно же, был этот Фишерсюнд, он чувствовал себя злодеем и в оправдание выдумал, что если она не вернется назад, превратившись в хору, то он явится туда и освободит ее – впрочем, не раньше, чем они оба станут взрослыми и его брат о ней совсем забудет.
Когда же девчонка, обнаружив, что никакого хулиганья в переулке и близко не было, заявила, что впредь он может сам «обихаживать своих вонючих паразитов», стало ясно, что в чертов магазин ему придется топать самому. Тем более что у его меченосцев появилась плавниковая гниль и нужно было лично посоветоваться с владельцем по поводу правильного лечения – дилетантам такой важный медицинский вопрос он доверить не мог.
Хроульвур вышел из автобуса на площади Лáйкьярторг и по улице О́йстурстрайти направился к началу Фишерсюнда. Но неожиданно на этом двухсотпятидесятиметровом отрезке пути оказалась уйма интересных и достойных тщательного исследования вещей: в Торговом кооперативе – лакричные конфеты из Восточной Германии, в Агробанке – новые копилки, в витринах «Тóрвальдсен-базара» – шарфы и варежки ручной вязки. Убив на это половину утра, отираясь в каждом из встречавшихся на пути заведений до тех пор, пока продавцы не начинали бросать на него подозрительные взгляды, Хроульвур Зофаниас добрался наконец до места назначения. Он отыскал укромное место за мусорными баками, откуда открывался обзор метров на пять вглубь Фишерсюнда, и затаился в ожидании удобного момента.
Когда ему показалось, что никаких хор в ближайшие несколько минут там не предвиделось, сорвался с места и припустил через дорогу, прямиком к дверям «Золотой рыбки», которая, к счастью, находилась в самом начале переулка, почти что на углу с Áдалстрайти.
Он испытал огромное облегчение, когда дверь магазина захлопнулась за ним. Внутри всё оказалось точно так же, как в старом полуподвале на Лёйгавегур: спертый воздух был пропитан запахом пота владельца, беспрерывно жужжали и булькали насосы, выпуская в аквариумы пузырьки воздуха и шевеля зеленые листочки растений, а рыбки издали казались разноцветными движущимися точками света, словно в волшебном лесу между деревьев порхали сияющие феи.
Впрочем, неправильно было бы сказать, что ничего не изменилось. С последнего его прихода в магазин с дочерью владельца произошли необъяснимые или, скорее, загадочные метаморфозы. Это можно было понять по тому, как она держалась, вылавливая темно-красную бойцовую рыбку, одиноко кружившую в отдельном аквариуме, а как раз таким бойцом Хроульвур давно мечтал обзавестись, но никак не мог на него накопить.
Плавным движением запястья она мягко повела погруженный в воду сачок вслед за рыбкой – через мгновение движение повторилось в ее бедрах – и так до тех пор, пока боец не утомился. Тогда она ловко выудила его, стряхнула в наполненный водой прозрачный пакет, закрутила и завязала узлом отверстие.
Об этом Хроульвур Зофаниас Магнуссон, генетик и гендиректор компании «CoDex», вспоминал однажды ночью, сидя в одиночестве в обитой бархатом кабинке, – точно на том же месте, где сорок лет назад стоял, сраженный переменами в дочери владельца. После переезда «Золотой рыбки» из Фишерсюнда в помещении долгие годы располагалось похоронное бюро, и вместо аквариумов вдоль стен стояли пустые гробы. Позже на месте бюро появилась химчистка, и гробы сменились на сушильные шкафы.
Теперь весь этаж занимал стриптиз-бар «Левински», и именно там, в одной из приватных танцевальных кабинок, сидел Хроульвур Зофаниас, ожидая, когда Алета, украинская девушка, с которой он до этого болтал у стойки, отдернет занавеску. По ее телосложению он сразу догадался, что Алета была трансгендером и прошла долгий путь трансформации, но еще не завершила его. Через несколько минут он надеялся узнать, на какой стадии перехода она находилась.
Дернулась занавеска. Алета, танцуя, приблизилась к сидящему в кресле мужчине. Мягко согнув в запястье правую руку (как когда-то дочь владельца, подумалось Хроульвуру, как дочь владельца), она поймала его в свой сачок.
* * *Когда Алета закончила танец, генетик попросил у нее номер телефона. Она не придала этому значения, но несколько недель спустя ей позвонили из его компании и предложили работу интервьюера. И вот теперь она сидела в полуподвальной квартирке Йозефа Лёве, ожидая, когда тот проснется.
* * *Кассета с голосом генетика была забыта в диктофоне, который Алете вручил ассистент гендиректора вместе с коробкой, где находилось двадцать чистых стовосьмидесятиминутных кассет, несколько папок, фотоаппарат «Polaroid» и другие материалы, относящиеся к исследованию. Готовясь к первому интервью, она, не прослушивая, вынула кассету из аппарата и положила ее в конверт с анкетами, чтобы вернуть в главный офис вместе с результатами опросных сессий. И только в октябре две тысячи десятого года, когда она сидела в гостевой комнате специального отделения государственной больницы в ожидании, пока ее собеседник будет готов к интервью (учитывая природу исследования, многие его участники находились либо в больницах, либо в специализированных учреждениях), ей в голову пришло проверить, что же было записано на этой старой «Philips 180-M» мини-кассете, такой потрепанной, будто ею пользовались очень долгое время. На изношенной этикетке много раз писали, зачеркивали, стирали и зацарапывали, но под всем этим еще можно было разобрать что-то, как ей показалось, похожее на «Д-р Магнуссон».
Она вставила кассету в диктофон и услышала шелест листьев, щебет дрозда, плескание волн и, наконец, резкое прокашливание, не оставившее никакого сомнения в том, кому принадлежали последовавшие за этим рассуждения. Голос генетика был знаком каждому жителю страны так хорошо, что даже самые бесталанные имитаторы могли ему подражать. В течение многих лет он регулярно появлялся в репортажах, на радио и телешоу как гендиректор биотехнологической компании «CoDex», откуда с момента основания градом сыпались сообщения о грандиозных научных достижениях. Поначалу вокруг компании всё бурлило из-за конфликта, связанного с доступом к медицинским картам исландцев, на основе которых создавалась база генетических данных целой нации, так называемая «Книга исландцев». Идея была продана парламенту и общественности под видом заботы о человечестве (чистые геномы исландцев должны послужить для открытий, которые избавят жителей планеты от всех мыслимых болезней – от онкологии до обыкновенной простуды), хотя на самом деле апеллировала к жажде национального превосходства и самой банальной жадности, так как позже выяснилось, что всё предприятие финансировалось заморскими фармацевтическими гигантами. После этого поток гремучих новостей уже не иссякал: по поводу побед на финансовых рынках внутри страны и за рубежом, последующего банкротства «CoDex» и множества людей, которые, очаровавшись россказнями о генетической чистоте и немыслимых прибылях, купили акции исландского чуда, по поводу рефинансирования компании и собственного воскрешения гендиректора, а также по поводу его своеобразных взглядов на исландскую историю и культуру, в особенности на литературу, а он придавал огромное значение своей подростковой мечте стать поэтом и утверждал, что те «неуклюжие литераторские эксперименты», когда пришло время, дали ему преимущество перед зарубежными конкурентами, которым было неведомо исландское фермерское искусство «закручивать сюжеты»[22]