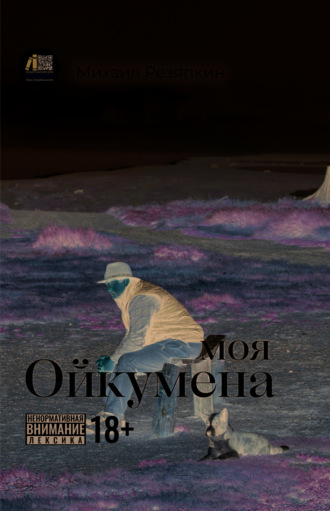
Полная версия
Моя Ойкумена
Я ходил завороженный по музею весь день, рассматривая коллекции японских нэцке, самурайские мечи, узоры на индейских мокасинах, малайские кривые кинжалы-крисы, и в моей голове не умещалось все это культурное разнообразие. А вот бы объездить все страны и увидеть всех этих людей собственными глазами!
На выходе я попросил родителей купить мне книжку о русских путешественниках. С того момента я начал читать о дальних странствиях все, что попадалось под руку.
На следующий день я попросил пойти в Кунсткамеру еще раз – я чувствовал потребность получить ответы на новые вопросы и еще раз прожить это условное путешествие по миру. К сожалению, у родителей были другие планы – им нужно было посмотреть как можно больше всего, и они потащили меня в Казанский собор – там был музей истории религии и атеизма. Вначале я расстроился и хотел закатить истерику, но потом одумался. В соборе тоже было интересно – египетские мумии, и еще я там узнал, что сердце Кутузова похоронено отдельно от него. Он завещал, чтобы, когда умрет, его тело было отправлено на Родину, а сердце было оставлено с русской армией, которая находилась в заграничном военном походе в Европе.
Вернувшись домой из поездки, я перерыл нашу библиотеку и собрал в одно место книги о великих путешественниках – о Ливингстоне, Головнине, Беринге. Потом я поговорил с дедом и объяснил ему, что меня теперь интересуют книги не о войне, а о путешествиях. Дед с пониманием выслушал меня и стал мне привозить сочинения Майн Рида и Фенимора Купера.
Я отложил в сторону «Книгу будущих командиров» и с упоением читал про Оцеолу – вождя семинолов. Чтобы не разбудить свою сестру, по ночам я читал под одеялом с фонариком. А лучше всего было заболеть и несколько дней не ходить в школу – тогда можно было провести с книгой в постели целый день.
Ночные допросы
Отец все чаще возвращался домой нетрезвым – на работе у него, видимо, происходило что-то неладное. Он периодически будил меня, скидывая одеяло, и гнал на кухню в одних трусах. Его и раньше не особенно интересовала моя учеба, а со временем он вообще перестал заглядывать в мой школьный дневник. Пока он чистил соленую рыбу и пил пиво, я должен был стоять по стойке смирно и отвечать на вопросы:
– Сколько танков подбил Илья Каплунов в бою под Сталинградом?
– А сколько потерял Гитлер в живой силе под Сталинградом?
– Почему винтовка Мосина называется трехлинейкой?
– В чем был основной стратегический замысел Кутузова в войне с Наполеоном?
– Сколько патронов в магазине автомата Калашникова?
– На базе какого танка создана самоходная установка СУ-100?
Проблем с ответами у меня не возникало, так как отец часто повторялся. Я знал, что наш земляк Каплунов один подбил 9 танков, что Гитлер потерял полтора миллиона, из которых триста тысяч пленными, знал, что трехлинейка так называется из-за своего калибра – трех линий, что в миллиметрах составляет 7,62… Но если отец не мог придумать очередного вопроса, то повисала неприятная пауза. Сам я предпочитал ни о чем не спрашивать, так как мог вызвать гнев отца на пустом месте. Стоял и думал: «Ну почему все так неправильно устроено? Профессия военного – защищать Родину. А если нет войны, то зачем нужна армия? В нашей стране все мужчины умеют обращаться с оружием, так как служили в армии. Военные в мирное время пьют и сходят с ума от безделья! А что я могу поделать? Я не могу изменить этого безобразия, но зато могу вырасти и стать великим путешественником, уехать далеко-далеко отсюда и присылать лишь редкие письма домой. Уж лучше жить Миклухо-Маклаем с папуасами на острове, чем так у себя дома…»
Чтобы как-то отвлечься, во время допросов я обычно рассматривал пальцы на ногах у отца. Кадровых военных сразу можно отличить по ногам: от постоянного ношения сапог у них все пальцы слипаются, уродливо изгибаются, принимая форму сапога. Особенно страдает мизинец – самому маленькому достается больше всех. Он всегда красный и опухший, но стремится хоть как-то проявить свою индивидуальность, отлепиться в сторону от общей массы. Но не тут-то было – пальцы тоже служат в армии. Наверное, через несколько поколений военные будут рождаться со ступнями без пальцев. Или сразу в сапогах…
Когда отца прорывало, он начинал рассказывать, как на их рембазу приходят подбитые БТРы, все внутренние стенки которых забрызганы кровью и мозгами наших солдат. В разгар «допросов» на кухню врывалась моя мама, у которой не выдерживали нервы, она выгоняла меня спать, а отцу устраивала скандал, принимая удар на себя со словами: «Ну что ты за человек такой!!!» Я не знал, кого жалеть: ее, себя, отца или нас всех. Мне становилось стыдно, что я служил причиной ссоры, и я долго не мог уснуть, слушая ругань. Еще мне было стыдно из-за того, что мама за меня заступается, и получается, что будто бы я прячусь за ее спину. Поэтому иногда я запрещал ей вмешиваться в наш разговор с отцом, и она расстраивалась, не понимая меня и считая неблагодарным.
Не знаю, к чему бы все это привело, если бы не пришел еще один приказ – отца отправляли на новое место службы в Закавказье, так как там требовались военные специалисты его профиля. Вначале он уехал один и присылал радостные письма, но с каждым разом радости в письмах убавлялось. Мы должны были ехать к нему, но мама очень не хотела. Потом я узнал, что отец готовил курсантов в Тбилисском училище горной артиллерии, а оттуда летал в «загранкомандировки». Там он испытывал системы залпового огня. Через несколько месяцев он приехал домой и привез мне в подарок карту Афганистана.
Я часами вглядывался в эту карту, пытаясь представить ту войну, о которой уже кое-что знал. Коричневый фон отмывки означал, что вся страна – это высокогорья, и своим еще неопытным умом я уже понимал, насколько трудно там должно было воевать – ни фронт развернуть в ущелье, ни окопаться среди камней. А как маневр провести? Танки ж не пройдут по горам! Остается одно – ползти по узким дорогам и драться за эти пути сообщения. Все совсем по-другому!
Когда я решился спросить об этом отца, он ничего не стал говорить, и я понял, что нельзя. Лишь однажды он напился, вызвал меня и сказал:
– Я не хочу, чтоб ты был десантником. Вообще не хочу, чтоб ты служил солдатом. В армию пойдешь только офицером! Вопросы отставить!
Больше он ничего объяснять не стал и на следующий день опять улетел. А я понял, что в нем происходит что-то такое, чего он пока не может рассказать и объяснить, – что-то новое для него самого… Может быть, со временем я получу ответ на эту загадку.
Директор музея и прикладная химия
В нашей школе был музей боевой славы, в котором висели военные фотографии и рассказы о героях-земляках. В этот музей каждый мог принести что-нибудь, напоминающее о войне: на полках лежали осколки снарядов, медали, пробитые каски.
За активность и интерес к военной истории меня назначили директором этого музея. В тот вечер мы вчетвером с одноклассницами и с нашей историчкой сидели готовили текст очередной экскурсии для младшеклассников. Историчку звали Минаида Федоровна, но мы за глаза называли ее просто – Мина. Вдруг в дверь постучали, и два первоклашки притащили… другую мину – мину от миномета. Минаида не разбиралась в минах, поэтому радостно поблагодарила их и, указав мне на предмет, сказала: «Ну вот, новый экспонат в наш музей, принимай!» Я сразу смекнул, в чем дело, и с трудом скрыл волнение – ведь это была современная 120-миллиметровая минометная мина, покрытая свежей зеленой краской и не имевшая никакого отношения к войне. Я тут же осторожно осмотрел взрыватель – он был слегка помят: видимо, мина не сработала при ударе. Я аккуратно принял снаряд, дождался, пока Минаида ушла домой, и скомандовал одноклассницам: «Вот что, Ольга, дуй быстрее в нашу школьную столовую и принеси мне алюминиевую ложку. А ты, Ирка, стой у дверей на всякий случай! Никого ко мне не пускай!»
Теорию я знал (не зря же дома стояли восемь томов «Советской военной энциклопедии»), но на практике приходилось это делать в первый раз. Руки тряслись невероятно, я кое-как открутил взрыватель и убрал его подальше. Все! Теперь порядок – ведь тротил взрывается только от детонации, и уже ничто не грозит. Аккуратно ложкой я начал разламывать зеленовато-желтое вещество и ссыпать его в кулечек, сделанный из тетрадного листка в клеточку. Одного кулька не хватило. Когда все было сделано, я припугнул одноклассниц: «Если кто-то что-то узнает, то всем нам попадет!» После этого заспешил домой.
Дома, пока не было родителей, я сплавил тротил на газовой плитке в две шашки, использовав для этого пустые консервные банки, и с нетерпением стал ждать следующего утра, чтобы обрадовать своих друзей.
Ну теперь пришла пора рассказать и о моих друзьях-одноклассниках. Их было трое: Колян, Букин и Бобрюша (вообще-то он был Бобров Андрюша, но мы сократили его имя и фамилию до Бобрюша). Друзья, в отличие от братьев и сестер, появляются в жизни не в определенную дату, а как-то постепенно, как будто прорастают в тебя. Зато, в отличие от родственников, их можно выбирать. Мы выбрали друг друга за что-то, что нас отличало от других и объединяло друг с другом. Что же это такое, что нас объединяло? Сложно сказать, просто нам хорошо и интересно было вместе. Ведь Атос, Портос, Арамис, д’Артаньян тоже очень отличались друг от друга, но все они были мушкетерами.
Теперь по порядку. Колян был долговяз, рассудителен и флегматичен. Я его уважал за то, что он всегда держал свое слово, даже в мелочах каких-нибудь, – принцип у него был такой. Например, еще в третьем классе мы договорились, что он не пойдет домой и будет ждать меня, пока не закончится мое дежурство по классу. Я уже давно отдежурил и забыл об этом, выхожу – а он ждет около школы.
– Ну ты даешь! Ты что, меня, что ли, до сих пор ждешь?
– Ну мы ж договаривались!
– Куда пойдем?
– Ну пошли ко мне – я тебе свой кипарис покажу и зуб от кашалота.
В его комнате на подоконнике стоял кипарис в горшочке, такой же длинный, как Колян. Кипарису не хватало места, и его макушка уже изгибалась вдоль потолка. Колян был асом в биологии, и все свое свободное время что-то расчленял, препарировал и рассматривал под микроскопом. Он мог определить любое растение по листьям и цветам и установить, какому из животных принадлежат какашки. Из него должен бы получиться хороший следопыт. А другом он и так уже был хорошим. Если сравнивать с мушкетерами, то Колян был точно Атосом – такой же благородный и аристократичный, как граф де ля Фер.
Бобрюша был педантом, очкариком и любил делать своими руками всякие замысловатые штуки – от модели подводной лодки до солнечных часов. Его любимыми журналами были «Техника – молодежи» и «Химия и жизнь». Дома у него в одной из комнат была то ли мастерская, то ли лаборатория – такому только позавидовать можно. У меня дома сестра музыкой занималась, и постоянно хотелось сбежать куда-нибудь от этого, а у Бобрюши в мастерской заперся – и пили себе магний для бомбочки, пока родители с работы не вернутся. Тогда нужно все быстренько убрать и идти с ними на кухню чай пить, про школу рассказывать, чтоб они не начали первыми интересоваться, чем мы весь день тут занимались. А вообще, если человек носит очки, то к нему сразу больше доверия у людей. Ты можешь прочитать в десять раз больше книжек, но в коллективе очкарики все равно будут слыть интеллектуалами по сравнению с тобой. Нет, я не хочу сравнивать наши способности, просто говорю о том, что встречают не только по одежке, но и по очкам.
Остался Букин. Он был добродушным и очень упрямым. В младших классах он был таким мягким пончиком, пухленьким ребенком, занимался музыкой, а потом вдруг одним прекрасным летом вымахал почти под два метра, раздался в плечах и превратился в богатыря, которому как будто еще жмет его старая шкура, как ботинки, из которых вырос. Уже одно это внушало уважение. Наверное, он пошел в одного из наших предков-варягов: высок, силен, светловолос, голубоглаз – ну настоящий викинг. На нем можно было переносить тяжести – он сдох бы, но донес. Поскольку силищи в нем было немерено, нас это немного задевало, и мы постоянно пытались над ним подтрунивать, но он все прощал нам со снисходительностью сильнейшего. Кстати, на роль Портоса он подходил идеально.
В общем, команда у нас подобралась замечательная, каждый был на своем месте.
В школу я чуть-чуть опоздал, и поэтому пришлось пустить записку для друзей: «Полкило тротила!»
Друзья заерзали. На перемене сразу же окружили:
– Где взял?
– Вчера первоклашки в музей мину приперли.
– Когда будем взрывать?
– Сегодня! Предлагаю в овраге на пруду!
– Точно! Сделаем плотик, привяжем и пустим на воду!
– А где детонатор возьмем?
– Можно охотничий патрон использовать. Я могу стащить, у нас все это спокойно в шкафу лежит.
– А как патрон подорвем?
– Можно поджечь шнур – его просто изготовить из пустого стержня от авторучки, если набить спичечными головками…
– А можно сделать взрывательную машинку: расколоть стекло на маленькой лампочке, а вольфрамовый волосок опустить в порох патрона, два провода от лампочки замкнуть на квадратную батарейку или «крону», волосок накалится и подожжет порох…
– Бобрюша, ты вечно все усложняешь! Давайте шнурком подожжем!
– Тогда так: Бобрюша готовит 2–3 бикфордовых шнура. Надо взять ножи, изоленту, спички. Собираемся в овраге после уроков в 15:00. А теперь – сверим часы!
…В 15:00 все были в овраге. Мы засунули в патрон шнур из стержня шариковой ручки, примотав его плотно изолентой. Этот детонатор приделали к тротиловой шашке, а все это сооружение – к деревянной дощечке. Шнуры получились на славу – к концам были примотаны спички, и нужно было лишь чиркнуть по ним коробком, чтобы огонь быстро побежал по стержню.
Первая наша бомба бездарно затонула, потушив разгоревшийся шнур – то ли дощечка была мала, то ли мы со страху слишком сильно ее толкнули на воду. Оставалась вторая. Сделав выводы из первого опыта, мы аккуратно опустили бомбу на водную поверхность, подожгли, стремглав бросились на землю за кочку, ожидая увидеть взметнувшийся в небо столб воды. Через пару мгновений мы услышали: «Пук!» – это взорвался патрон-детонатор.
Мы с опаской высунули свои разочарованные лица и смотрели на плавающую дощечку, на которой не осталось ни кусочка тротила: шашка рассыпалась на части, и все драгоценные кусочки утонули.
– А я зна-а-а-аю, почему так произошло! – протянул Бобрюша.
– Ну, и почему?
– Тротил взрывается только в закрытом пространстве, а так его только разнесло в стороны. Вот если бы он был в банке…
– А почему ты сейчас такой умный? Че до этого молчал?
– Так не подумал. А сейчас понимаю… Но не расстраивайтесь. Давайте я тогда из химкабинета, из лаборатории, кусок натрия сопру – вот рванет так рванет!
– Ну давай! Договорились! С тебя натрий!
Бобрюша не обманул: на следующий день, пока мы отвлекали химичку, он дерзко пробрался в лабораторию и быстро стянул с полочки заветную склянку. Мы побежали в овраг. Такого эффекта мы, если честно, не ожидали: вот жахнуло так жахнуло! Случайных прохожих около пруда как будто взрывной волной снесло – к нашему восторгу, все они в ужасе разбежались в разные стороны.
Уроки литературы
С училкой по литературе у Коляна были принципиальные идеологические разногласия. Началась эта история давно, еще в прошлом году, с темы урока «Интернационализм в творчестве Пушкина». Все одноклассники по очереди рассказывали одно и то же: что Пушкин был полунегр-полурусский, что знал и русский, и французский языки и что его стихи переведены на все языки мира.
Колян копнул глубже, и, когда дошла очередь до него, он обратился к первоисточнику – к тексту пушкинских сказок:
– Пушкин по натуре был интернационалистом и с любовью писал о разных народах. В его знаменитой «Сказке о мертвой царевне и о семи богатырях» он так описывает ежедневные развлечения русских богатырей-интернационалистов:
Перед утренней зареюБратья дружною толпоюВыезжают погулять,Серых уток пострелять,Руку правую потешить,Сорочина в поле спешить,Иль башку с широких плечУ татарина отсечь,Или вытравить из лесаПятигорского черкеса.– Ты к чему это клонишь, Николай? – почуяла подвох училка, но поздно…
– К тому, что черкесы, татары и прочие народы нашей любимой Родины…
– Садись на место! Два тебе за предмет!
– За что?
– Знаешь за что!
– Вот не знаю! Несправедливо!
– Будешь пререкаться – родителей вызову.
– Они у меня Пушкина еще лучше знают…
– Молчать!!!
Когда ты умнее, диалог с учителем не получается – это закон школы.
Потом через несколько уроков была тема любовной лирики Пушкина, и Колян опять фундаментально подготовился: где-то раскопал полное собрание сочинений великого поэта и в качестве примера попытался зачитать отрывки из «Сказки о царе Никите и сорока его дочерях», а также наизусть декламировал «Гаврилиаду». Наша училка не могла найти убедительных аргументов и была вынуждена просто выгнать Коляна из класса.
– А что, это ж не я! Это ж великий поэт так сказал!.. – затихал в коридоре голос Коляна, убегающего от гнева училки.
Зато после уроков он храбрился:
– Следующий раз я гусарские стишки Лермонтова зачитаю! Пусть попробует заткнуть меня!
Что ни говори, а русскую классическую поэзию Колян знал уже лучше, чем училка. Поэтому она и злилась: он всегда мог прокомментировать ее слова и возразить, ссылаясь на классиков.
В этот раз он уже накануне предчувствовал, что его вызовут к доске, и поэтому предложил нам пари:
– Спорим, что я урок сорву?
– Конечно спорим! Для нас – беспроигрышный вариант: или спор выиграем, или урока не будет! А на что спорим?
– Если сорву урок, тогда в мое дежурство по классу вы за меня пол будете мыть!
– Договорились!
Училка задала на дом подготовить доклад на тему «Лишний человек Базаров». Предполагалось, что мы вызубрим шаблонные фразы из учебника о том, что «Базаров противопоставлял себя обществу в традиционном конфликте отцов и детей», и дальше подобной чепухи на две страницы. Колян был по натуре человеком глубоко эстетичным, и его передергивало от необходимости повторять за кем-то банальности.
Поэтому он заранее подготовился к развязке, которую сам и смоделировал. Выйдя к доске, он мерным шагом взошел на кафедру как на эшафот, взялся двумя руками за бортики, облокотился, солидно откашлялся и весомо произнес:
– Я не считаю, что Базаров – лишний человек. Но! Если вы все так считаете, то и говорить о нем – лишняя трата времени. На этом мой доклад окончен!
– Ты что, издеваешься надо мной? – вскричала училка. – Это все?
– Абсолютно! Базаров же – лишний человек!
– Я тебя убью! – решила она пошутить.
– Не стоит утруждаться, я обо всем позаботился сам, – с достоинством ответил Колян, при этих словах вынул из грудного кармана игрушечный револьвер, приложил к виску и спустил курок. Раздался громкий хлопок пистона, и Колян очень натурально грохнулся на пол с высоты своего почти двухметрового роста. Наши овации заглушили рев училки. Ни о каком уроке уже не было и речи – нас не могли угомонить, и училка в конце концов просто распустила нас по домам.
Хотя Колян и получил двойку за доклад, но зато остался при своем мнении и сорвал урок литературы – еще и спор выиграл, а мы пошли мыть за него пол…
Есть наслажденье в бездорожных чащах
Индейские воины двинулись в поход. До пояса и ниже бедер они обнажены, грудь и руки их раскрашены, и при них лишь луки, колчаны и стрелы. Сомнений не оставалось: это дикие индейцы выступили на тропу войны. Не звякали удила, не звенели шпоры, не бряцали сабли. Слышались лишь глухие удары о землю неподкованных копыт, да порой ржание нетерпеливого коня, который тут же умолкал, сдерживаемый седоком. Они проходили неслышно-неслышно, как тени. Озаренные полной луной, они казались призраками…
Майн Рид. Белый вождьМне очень нравились книги об отважных и свободолюбивых индейцах, которые всегда предпочитали храбро погибнуть, но не смириться с несправедливостью и унижением. Эти фантазии об идеальных воинах-храбрецах переместились в мои игры. Больше я никогда не играл в войну, а стал изготавливать луки, стрелы, томагавки, ножи. Поначалу получалось не очень складно, но постепенно, прочитав про индейцев почти все, что было издано на русском языке, я прекрасно освоил теорию. Самой лучшей книгой была «Маленькие дикари» Сетона-Томпсона, в которой была подробная инструкция, как строить индейский шатер-типи, шить мокасины, делать луки и различать звериные следы. Оставалось только применить знания на практике, и постепенно мокасины становились удобнее, оперение на стрелах – ровнее, лук бил уже прицельно на 30 шагов. Неудивительно – ведь луки мы делали строго по рецепту: выбирали прямой ствол орешника, срезали его в зимнее время, когда не было сокотока в дереве, сушили в тени до лета, а летом аккуратно выстругивали лук. Лишь бабушка моя причитала, когда я приезжал к ней на летние каникулы:
– У всех внуки как внуки, а у нас! Нарядятся в перья и с топорами и криками друг друга гоняют! Дикари какие-то!
– Не переживай, бабушка! Это игра такая, мы ж на каникулах!
– Да вон лучше б футбол какой-нибудь!
Все свое свободное время мы с друзьями-«индейцами» проводили в лесу, благо наш дом стоял на самом краю леса. Мы оборудовали в лесу поляну, на которой жгли костер, играли, стреляли из лука и метали ножи и томагавки в цель. На вершине высокого клена была устроена смотровая площадка, к которой вела лестница вдоль ствола. Обычно мы сидели вокруг костра на удобных огромных бревнах, вели долгие беседы и знали, что нет ничего крепче и важнее нашей дружбы. Но на всякий случай мы все-таки решили поклясться кровью, разрезав себе пальцы по индейскому обычаю. Букин дольше всех ковырялся ножом в своем пальце – уж слишком жалко было себя.
– Ты что там так долго ножичком скребешь? Шкурку свою повредить боишься? Так давай я тебе помогу! – грозно предложил Колян, для которого никогда не было проблем пустить кровь себе или кому-то другому, он давно уже взрезал себе ладонь, расписался кровью везде, где было нужно, и умиротворенно сидел в стороне.
– Отстань, без тебя разберусь! – отступать было некуда, и Букину пришлось все же выдавить несколько красных капель.
– Вот теперь порядок! Ставим отпечатки крови на бумагу с текстом клятвы!
– Кто нарушит – тому позорная смерть!
Тем временем Колян сидел вытесывал топором из бревна тотемный столб. Художником он был не ахти, поэтому идол получался непонятным – не мышонок, не лягушка, а неведома зверушка.
– Колян, а кто изображен в этом творении Микеланджело?
– Не знаю, мордовский бог!
– При чем тут мордва? Мы ж индейцы!
– Мы-то индейцы, а живем на древней земле мордвы.
– А по-моему, он похож на «длинноухих» с острова Пасхи!..
– В общем, не важно, как называется – нашим покровителем будет этот мордовский бог. Богов, как и родителей, не выбирают!
– Да, это будет наш тотем и мы будем ему поклоняться!
– Его тоже надо намазать нашей кровью, чтоб он был свидетелем!
– Ну хватит уже этой дикости!!! Сколько можно???
– Нет, Букин, на хватит! Ты первый!
Мы пересмотрели все фильмы про индейцев, в которых играл Гойко Митич. В школе на занятиях физкультурой нам некогда было со всеми вместе играть в футбол, так как мы тренировали в себе «специальные индейские навыки». Нужно было набить немало синяков не только на коленках, чтобы с земли как птица взлететь в седло без помощи стремян, как это делал Гойко Митич. Мы ему страшно завидовали и за этот трюк готовы были простить даже то, что он многократно стрелял из кремневого пистолета не перезаряжая, как из револьвера… Тренировочной лошадью служил или гимнастический бум, или другие похожие по размерам предметы. Как бывает неприятно со всей прыти перелететь через бревно и грохнуться на землю с противоположной стороны! Но даже насмешки окружающих не могли остудить наше рвение: ведь тяжело в ученье – легко в бою! Зато когда-нибудь настанет тот миг, когда я с разбегу вскочу в седло и ускачу галопом прочь отсюда в бескрайние прерии!
Кроме своей Индейской Поляны, тотема и клятвы, у нас были свои законы и кодекс поведения. Мы разработали систему наград – перья «ку» в головной убор за отличия и подвиги. По примеру комсомольской организации, мы принимали в свои ряды только по рекомендации двух членов. На «совете вождей» у костра регулярно собирались взносы для покупки необходимых для индейской жизни предметов: ножей, топоров, веревок, спичек.
– Предлагаю собрать со всех свободных индейцев по 2 рубля – Колян видел в магазине чехол для автомобиля «Запорожец», из этого чехла мы сможем выкроить «типи» – покрытие для индейской палатки.
– Единогласно!
– И еще нужно купить пару топоров и спрятать их в лесу, а то неудобно каждый раз таскать из дома!




