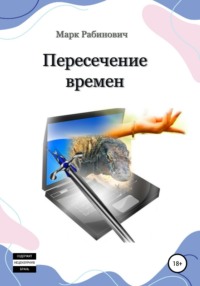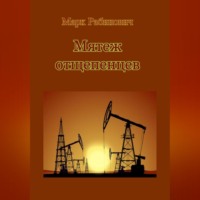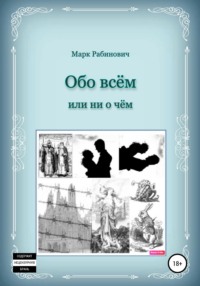Полная версия
Сказание о Големе. Возвращение Голема
– Будете работать здесь или заберете с собой в гостиницу? – спрашивает профессор и добавляет – Лучше, разумеется, здесь.
Интересно что мое желание или нежелание возиться с древним артефактом даже не обсуждается. И правильно, нечего тут обсуждать. А вот заданный им вопрос меня смущает. Не хотелось бы стеснять профессора, но с моей гостиницей не все так просто. Соблазненный прекрасным расположением, средневековым антуражем и доступной ценой, я не обратил внимание на мелкий шрифт в конце письма, в котором мне любезно сообщали о подтверждении заказа. А зря! Оказалось, что все четыре фасада “Трех страусов” взялись ремонтировать как раз в дни моего пражского сидения. В общем, когда в восьмом часу утра над моей головой начали стучать молотки, я понял причину столь низкой цены. Наверное Йиржи догадался по моему лицу, а может быть его просветила Элишка и вопрос был демократично решен двумя голосами при одном смущенном воздержавшемся.
И вот теперь я сижу в профессорском кабинете и осторожно пытаюсь разбирать непослушные слова. Здесь прекрасный свет и лупа на штативе. Что еще надо для работы?
– Может показаться странным, что в Остроге печатали на иврите – рассказывает профессор – Но это только на первый взгляд. Особенно, если прочитать предисловие издателя. В те времена еврейские печатники было весьма консервативны и вряд ли согласились бы напечатать такой текст…
Иврита он не знает и саму книгу, разумеется, прочесть не смог бы, да и я ее пока не прочел. Зато мы прочитали предисловие Мстиславца, точнее прочел профессор. Он ведь славист, ему и карты в руки, ну а для меня он сделал перевод на современный русский язык. Впрочем, язык его перевода не совсем современный, зато орфография соответствует той, которой меня учили в детстве. И вот что там написано:
Я, Петр, сын Тимофеев, скромный друкарь из Мстиславля, с Божьей помощью переношу на бумагу здесь, в земле Острожской, повесть удивительную, коию получил на наборных досках, а те доски доставил мне верный человек из Праги-города. Сий муж и поведал мне то сказание, что на досках, поелику гебрайкого языка не ведаю. А и до меня-то много было говорено о том деле, как в Праге-городе, так и в иных землях, да не все то правда, а и кривды немало. Сей же текст доставил мне муж ведомый и честный и посему сие правда есть. Вот и тщусь я, грешный, донести до добрых людей истину о том, что случилось в жидовском месте Праги-города, геттом именуемом, при правлении славного императора Рудольфа и что сделал добрый рабби Лёве, а чего не делал. А желал тот рабби своих жидов защитить от мужей неправедных и создал того, кто Големом звался и был тот Голем у них защитником. А ни демона, ни монструма рабби тот не сочинял, поелику был праведен и мудр, хоть и в Христа не верил. А люди правды ту повесть записали и на печатные доски нанесли. А правда-то не всем люба, вот и не взялись ту повесть нести на бумагу ни друкари жидовские, ни друкари папистские. Мы же, на Господа нашего уповая, сие исполним.
– Подозреваю, что у нас в руках оказался единственный сохранившийся экземпляр – продолжает Йиржи – Мне уже встречались намеки на эту книгу в летописях начала XVII-го века, вот только тогда я еще и представления не имел, о какой именно книге идет речь. Ведь намеки те были до нельзя туманными, книгу даже не называли по имени и теперь я понимаю почему. Но по-прежнему непонятно отчего в те непростые времена на нее ополчились буквально все кому не лень. Странность эта усугублялась тем, что ни один из источников не ссылался на содержание книги. Ее не называли ни еретической, ни крамольной, ни как-нибудь еще – ее просто уничтожали. Папистские инквизиторы занесли ее в индекс запрещенных книг, может быть даже и на всякий случай, но жгли ее исправно. Православные попы предавали ее анафеме и тоже жгли, да и ортодоксальные раввины не отставали. Утраквисты, впрочем, тоже были мастера жечь не устраивающие их тома. Поэтому книга, которую вы держите в руках, уникальна и до недавнего времени я и сам не подозревал о ее существовании. А тут вдруг всплыло, совершенно неожиданно, завещание моего деда и выяснилось, что кроме полуразвалившегося загородного домика, он завещал мне эту самую книгу. Нет, он мне про нее и раньше рассказывал, но я никогда не придавал значения его словам, считая их старческой фантазией. А зря! Много, ох как много интересного рассказывал мой дед…
Я слушаю его вполуха; меня больше интересуют темные буквы на серой бумаге. Странный это текст. В еврейской книге того времени можно было ожидать цитат из Торы, аллюзий на библейские темы, иносказаний. Ничего этого в книге нет, хотя титул Всевышнего упоминается и написан по всем правилам. Но это вовсе не записки мудреца, не очередной комментарий и не поучения. Это просто-напросто автобиография, или нет, неверно – это исповедь: повесть о любви и о боли потерь. И язык той исповеди странный: автор явно не силен в иврите и порой путает слова или ошибается в их написании. Иногда он даже пользуется немецкими словами в их ивритской транскрипции, подобно тому как современный иврит абсорбирует английские и французские термины. Зато его речь живая, не книжная, почти современная мне. И слова… горячие, страстные, не потускневшие за века, в отличие от несущих их букв. Начинается книга такими словами:
Да благословенно будет имя Всевышнего во веки веков!
По велению славного рабби Лёва пишу эти строки и оставляю их для того, кто потрудится их прочесть. Судьба же слов моих мне неведома. Если будет на то воля Всевышнего, то послужат они поучением для читающих. А может и так статься, что лишь посмеются надо мной потомки. Скорее всего неверно ни то ни другое, и вскоре забыты будут мои слова, как забыт буду и я сам. Полагаю, что будет то справедливо, ибо корявы и нелепы слова мои, как коряв и нелеп я сам. Все же веление рабби следует исполнить и я его исполню. Внимайте же повести лет того, кто стал Големом…
У меня на руках такие же нитяные перчатки, как у Йиржи, но и без этих атрибутов библиофила я предельно осторожен. И чувство, которое я испытываю перелистывая страницы близко к благоговению. Но все же что-то меня смущает, что-то не так, чего-то не хватает. Ага, вот оно что… ведь у книги нет имени. Петр Мстиславец не дал своему детищу названия, нет его и в ивритском тексте. Но я не оставлю ее безымянной. Я назову ее “Сказание о Големе”. Вот оно…
Глава I. Как я пришел в Прагу
Право слово, есть нечто мистическое в этом городе. По крайней мере в местах иных я, помнится, не слишком часто задавался философскими вопросами. Бывало всякое, но так чтобы задумываться о смысле жизни и тому подобном? Нет, увольте! Как-то не к лицу это такому как я. А вот здесь, в Имперской Праге, я порой только этим и занимаюсь. Например, мучает меня мысль о том, кто я такой… Действительно, кто я? Странный вопрос, не находите? И, представьте себе, нет у меня на него ответа. Наверное, я уже прожил одну жизнь, прожил ее неправильно и теперь придется все начинать с начала. Чтож, мне не привыкать. Иногда мне кажется, что я прожил великое множество лет и великое множество жизней и немыслимо стар, старше чем весь этот безумный мир.
А может быть все это просто от безделья? Слишком уж долго наш добрый император ни с кем не воюет. Да и вообще, что-то подозрительно тихо в Европе в последние месяцы: ни войн, ни крестовых походов. Пожалуй что со времен Лепанто нам не довелось толком размяться, не считать же сражениями пограничные стычки в Хорватии. Впрочем, воевать я не люблю. Поэтому, когда мне предложили охранять императора Рудольфа, размышлял я недолго. Надо сказать, что с моей рожей стражником, тем более – сотником, стать нелегко. Дураком я никогда не был и прекрасно понимаю, что охрана государя, это не просто служба, но и в значительной мере политика, то есть – надувание щек. Стражник властителя может, а иногда даже и должен, попасться на глаза знатным гостям, в том числе и тем, на кого правитель хочет произвести впечатление. Поэтому вид страже следует иметь бравый и благообразный, в общем – приятный глазу. И уж явно не такой, как у меня.
Меня не зря прозвали Меченым и последнее, что вызывает моя внешность, это приятные мысли. Отнюдь. А некоторых так и просто передергивает при одном только взгляде на мое лицо. Но господин Ланг, с которым я познакомился на Мальте, имеет на этот счет свое мнение, которое, без особого труда, сделал мнением императора Рудольфа. Он уверил его, что такая образина как моя только оттеняет божественную красоту Государя, а, заодно, ввергает в трепет врагов. Насчет красоты императора не скажу, но ввергать в трепет всех подряд для меня труда не составляет и император в этом убедился, что и обеспечило мне, в конце концов, место капитана императорской стражи в Граде. Впрочем, подозреваю, что заинтересовал я Рудольфа не как страшила, а скорее как забавный уродец, еще один экземпляр его кунсткамеры. Ну и пусть.
В Прагу я попал благодаря все тому же Лангу. Помню, как сразу после Лепанто мы встретились в одном из кабаков Рагузы6, где оставшиеся в живых морпехи пропивали османское золото. Веселье было в самом разгаре, когда зазвенел дверной колокольчик и в проеме появились еще двое посетителей. Дело было ночью, а на уличном освещении в венецианских городах принято экономить, так что их лица было освещены более чем тускло. И, тем не менее, я сразу узнал обоих.
Впервые судьба свела нас с Лангом в Сент-Анжело, где я лежал с разрубленным османским ятаганом лицом. Филиппу тогда еще было ой-как далеко до придворной карьеры и он служил всего лишь лекарем у рыцарей. Но уже тогда он был изрядным пронырой и приторговывал магической настойкой фон Гогенгейма, именуемой “лауданум”. Золото в те дни не стоило ничего, как и человеческая жизнь, а вот забыться хотелось слишком многим. Мне так уж точно. Когда тебе разрубят пол-лица, то жизнь как бы делится напополам, будто разрубленная тем же самым клинком. И первое, что увидел в этой новой жизни мой оставшийся глаз, была его ухмыляющаяся физиономия. Сицилийцы и немногие оставшиеся в живых рыцари уже прогнали турок, кормили в крепости хорошо, торопиться было некуда и я пролеживал дни за днями на койке. Зеркало я выбросил сразу, едва взглянув в него и никого больше не хотел видеть, потому что видел свое отражение в глазах посетителей. Впрочем, никто и не приходил, просто некому было, Почти некому, ведь большинство защитников острова полегли в бою.. Зашел только, сильно хромая, старый де ла Валетт, вздрогнул, покачал головой и быстро ушел, ни сказав ни слова. А вот Ланга мое уродство, казалось бы, совсем не смущало. Он приходил часто, носа не воротил, не вздрагивал и даже позволял себе иронизировать по поводу моих увечий. Мне, как ни странно, становилось легче от его примитивных шуточек. Сомневаюсь что он был слишком уж умелым лекарем (мою рожу, возможно и к лучшему, зашивал местный еврей), зато прохиндеем он был знатным. Говорили про него разное: и то что он “приделал ноги” солидной доле добычи, и то, что мухлевал с продовольствием. Некоторые даже утверждали, что он присвоил целую османскую каракку, полную благовоний и продал ее где-то в Леванте. Во время моего госпитального лежания мне удалось узнать его поближе и я был готов поверить всему, что про него болтали. Близкими друзьями мы, пожалуй, не стали, но расстались по-дружески, хотя и немного неожиданно. Дело в том, что он пропал, исчез, как раз за день до того, как я сел на галеру, идущую в Неаполь. Сильно подозревяю, что это было связано с ревизией, затеянной Магистром. За те три года, что минули после мальтийских дел, я ничего о нем не слышал и, разумеется, не ожидал встретить.
…А вот теперь он стоял в двери и озирался, пытаясь понять, куда его занесло. Внутри крепостных стен Рагуза скатывается к морю с крутого холма и вместо улиц ее порой пересекают лестницы из множества гранитных ступеней. Наша харчевня (вроде бы “У Кристо”, впрочем – уже не помню) прилепилась снизу как раз к одной из лестниц и, чтобы в нее попасть, надо было спуститься по крутым ступенькам. Второму из посетителей сделать это было явно трудновато и Филипп помогал ему, поддерживая под руку. Его я тоже узнал и сразу вскочил из-за стола, чтобы помочь. Это был дон Мигель, наш взводный, который уже не первую неделю лежал в местном госпитале. И неудивительно, ведь при Лепанто ему очень серьезно досталось. Мы тогда сцепили нашу “Маркизу” с османским галеотом, захватили, пользуясь численным перевесом, всю палубу и начали пробиваться на бак. Но отчаянным туркам удалось нас задержать, выстроить наверху аркебузиров и наш командир, шедший впереди, первым получил три пули. Впрочем, я этого не видел, так как в середине боя поскользнулся на промокшей от крови бухте каната и полетел в море через пролом в борту. К счастью, пролом тот был ближе к носу и меня не раздавило между судами, а вот панцирь, который обошелся мне в полтора венецианских дуката, пришлось подарить заливу. Потом на меня начали сыпаться мертвые турки, но я сумел ловко увернуться и продержался на воде до подхода шлюпок.
…Взводный явно еще не полностью оправился от ран и именно поэтому Лангу приходилось поддерживать его. На помощь им бросился не только я, но и все наши ребята.
– Привет, друзья! Рад вас снова видеть!
Дон Мигель был, как всегда, спокоен и приветлив, да и вообще, выглядел как обычно, если не считать неестественно бледного лица и левой руки на перевязи. А вот Ланг уставился на меня, как на привидение.
– Так это же… – он осекся и продолжил на полтона ниже – …Капитан Бруно.
У меня было несколько прозвищ. Когда-то меня называли “Красавчик Бруно”, но после Мальты это прозвище отпало само собой. А вот капитаном я действительно побывал, правда не слишком удачливым и недолго. Почти весь мой отряд погиб обороняя Сент-Эльмо, четверо оставшихся пали в Сент-Анжело, а я потерял глаз и человеческий облик. Дорого обошлась добрым католикам Великая Осада Мальты.
– Меня зовут Бруно Меченый – сказал я.
Ланг понимающе кивнул, потом плотоядно посмотрел на отнюдь не пустой стол и я вспомнил, как он умудрялся вкусно есть и пить даже в самые последние, голодные дни осады. А вот дона Мигеля яства не заинтересовали. он лишь налил себе местного (и очень неплохого) вина и начал медленно его цедить, закусывая кусочками обжаренной в оливковом масле и покрытой кунжутным семенем лепешки. Бойцы уже успели опорожнить кувшин-другой и жаждали общения. Надо сказать, что наш взводный никогда не страдал чопорностью и все же на обычный треп о бабах никто не решился из уважения к настоящему идальго. Тем не менее, хотя тем для разговоров в трактирах у нас не так много, была еще одна, насущная для каждого из нас.
– Война практически закончена, друзья, и такие как мы еще долго не будут нужны – начал кто-то из сидящих за столом – Чем нам прикажете заняться? Вот, к примеру, вы, дон Мигель. Не в обиду будет сказано…
– Мне-то как раз проще всех – взводный улыбнулся – Военная карьера не для сухоручки. Так что придется вспомнить иные свои таланты.
Улыбка его выглядела невесело, то ли в силу болезненной бледности, то ли по причине безрадостных дум.
– Вам же, друзья мои, не следует отчаиваться – продолжил он – Войны будут всегда и для острого меча работенка всегда найдется, хотя бы, к примеру, и в заокеанских провинциях. Вот только…
Он замолк и мы тоже молчали, ожидая продолжения. Когда он снова заговорил, его речь стала медленной и натужной, как будто он выдавливал слова через силу.
– Времена изменились и то, что ранее было уделом избранных, становится доступно… нет, не всем, конечно… но уже многим.
– Про что это вы, сеньор? – спросил кто-то за столом.
– Это я про науки и искусства. Вы разве не замечаете, что некоторые наши властители увлеклись изящными искусствами, астрологией и алхимией более чем завоеваниями?
– Хорошо это или плохо?
– Смотря для кого. Если у тебя за душой нет ничего, кроме клинка, то хорошего мало. А вот если у тебя за плечами хотя бы пару лет в Саламанке, то тогда…
До этого он, казалось, избегал смотреть в мою сторону. К тому, что люди вздрагивают при взгляде на меня и быстро отводят взгляд, я привык довольно быстро и научился не обращать внимания. Но при последних своих словах дон Мигель бросил на меня быстрый осторожный взгляд и я сообразил, что он меня все же узнал.
Когда в Неаполе я пришел к нему наниматься в морпехи, то был уверен, что узнать меня невозможно. К тому же я сменил имя и назвался прозвищем вместо родового имени, которое было ему хорошо известно. Еще бы не известно, ведь во время учебы в Саламанке мы были закадычными друзьями и нередко весело проводили ночи, распевая серенады под такими окнами, из которых запросто могли ответить арбалетным болтом. И не кто иной как я был секундантом на его дуэли с Антонио де Сигура. Потом ему пришлось бежать в Италию, то ли от мстительных родственников Антонио, то ли от кредиторов и след Мигеля де Сервантеса Сааведра затерялся. Вскоре и мне пришлось покинуть Альма Матер, когда моим покровителем и другом, отцом де Санта Фе, а потом и мной самим, заинтересовалась Святая Инквизиция. Именно тогда мне пришлось сменить и имя и род занятий.
В Неаполе он меня то ли не узнал, то ли сделал вид, что не узнает. Впрочем – неважно. Наверно взводный что-то рассказал Лангу, потому что позднее, когда пирушка начала выдыхаться, Филипп подсел ко мне.
– Чем думаешь заняться, Бруно? – спросил он без долгих предисловий – Не надоело воевать?
Я пожал плечами:
– А на что еще я годен?
– Не надо. Ты мне всегда был симпатичен. И не надо строить из себя тупого солдафона. Ты потерял всего лишь смазливое личико – невелика беда. Зато тут… – он постучал себя по голове – …у тебя все на месте. Глупо будет этим не воспользоваться.
Надо признаться, что его слова упали на благодатную почву: воевать я устал, но как заработать себе на жизнь – не представлял. Поэтому я посмотрел на него вопросительно и стал ждать продолжения, которое не заставило себя ждать.
– В нашей многократно священной Римской Империя есть множество славных городов, но самым славным, похоже, становится Вена. Именно туда сейчас направляются потоки золота, обделяя Толедо и Мадрид. Чую я, что умный человек найдет там себе применение.
– Какое именно? Торговля?
– Нет, не думаю. Впрочем, если ты собираешься обзавестись толстой женушкой, выводком детей и аккуратным домиком в тихом месте, то тебе самая дорога в купцы. Но это не для меня, да, как мне кажется, и не для тебя. Таких как мы с тобой манит не столько богатство, сколько власть, хотя власть без богатства немногого стоит. И, все же, власть. А нити той власти тянутся сейчас из Вены. Надо всего лишь держаться поближе к трону.
О, да! Я был уверен, что этот прохиндей обязательно дорвется до власти, если его, конечно, не повесят раньше. Но при чем тут я? Меня-то как раз власть не слишком привлекала, но доказывать это Филиппу не имело смысла.
– Ты можешь прожить в Рагузе годик-другой? – спросил Ланг.
У меня было припрятано кое-что в местном отделении “Банко ди Наполи” и я ответил утвердительно.
– Тогда сиди тихо, ни во что не суйся и жди моего письма.
На этом и закончилась наша пирушка, спокойно, без драк и скандалов, что и отличает опытных солдат от новичков. Дон Мигель, выходя, улыбнулся и попытался мне подмигнуть, но не удержался от болезненной гримасы. На его сильно побледневшем лице улыбка выглядела натужно и болезненно…
…Письмо от Ланга я получил не через год и не через два, а на пятый год. Признаться честно, сидел я в Рагузе не слишком тихо, вследствие чего в эти годы меня можно было повстречать не только в пограничных областях Далмации, но даже в Тунисе. Впрочем, тунисская эпопея не принесла мне ни золота ни славы, хорошо хоть что жив остался. Наконец, вернувшись в Рагузу из очередной вылазки, я обнаружил весточку от Ланга. Он писал, что двор императора переехал в Прагу и он, Филипп Ланг, вместе с ним. И поскольку дела у него идут как нельзя лучше, мне следует немедленно присоединиться к нему.
Домом и семьей я так и не обзавелся, следовательно в Рагузе меня ничего не держало и ничто не мешало мне принять предложение Филиппа. Войны, как таковой, больше не было, но не было и мира, османы пошаливали и ехать через их провинции не стоило. Единственный безопасный и относительно прямой путь в Богемию шел из Венеции через Инсбрук и Вену, причем суда из Рагузы в метрополию отправлялись по трое в сутки. Оттуда до Вероны я легко добрался почтовым экипажем, но через Бренер экипажи не ходили и дальше надо было путешествовать верхом. Поневоле пришлось прикупить на конском рынке выносливую кобылу (по статусу мне полагался жеребец, но я решил сэкономить) и мула для поклажи. Последующий путь до Праги занял полтора месяца и изрядно меня вымотал, может быть еще и потому, что после Мальты я служил морпехом, следовательно кавалерист из меня тот еще. В общем, в Праге я появился в конце октября, самого лучшего сезона в этом городе, как не замедлили меня заверить в постоялом дворе на Кампе. Ночевал я там всего одну ночь и уже на следующий день поселился на втором этаже небольшого домика в Златом переулке. К этому времени я уже стал капитаном императорской стражи и владельцем небольшого кошеля с дюжиной имперских золотых монет. И все это благодаря Филиппу Лангу, бывшему лекарю, бывшему спекулянту продовольствием, бывшему жулику и прохиндею, а ныне – камерарию его императорского величества Рудольфа II. Впрочем, жуликом и прохиндеем он остался, разве что изменились масштабы его авантюр. Воистину полезно иметь таких друзей, не забывая однако при этом об осторожности.
Разумеется, я был представлен первому князю империи, но больших ласк не удостоился, если не считать дюжины золотых, что меня, впрочем, вполне устроило.
– Ну и рожа, Пресвятая Благородица! – поморщился Рудольф при взгляде на меня (причем мне удалось не моргнуть и глазом) – А ты знаешь, Ланг, будет пожалуй забавно продемонстрировать его посланнику моего братца.
Сам император тоже благообразностью не отличался. Острая, по последней испанской моде, борода не могла скрыть габсбургских, отнюдь не испанских черт лица. Впрочем, скорее всего это подсказывал мне кастильский снобизм моей молодости. И все же изрядно одутловатое лицо сладострастца, покрытое, к тому же, болезненными, тщательно напудренными, но все же заметными пятнами, было далеко от благостности. Уж не стыдная ли болезнь, подумалось мне тогда, но свои мысли я предпочел придержать внутри, не позволяя им проявиться на лице. Впрочем, мое лицо, точнее – его остаток, давно разучилось проявлять эмоции. Говорил Рудольф на каком-то германском наречие, которое я, хоть и с трудом, но понимал. Если ты служил солдатом хотя бы пару лет в южных землях, то германский язык для тебя не проблема, ведь именно на нем (а, точнее, на одном из его многочисленных диалектов) объясняется большинство наемников. Помнится мне что даже дон Мигель, исконный испанский идальго, загрязнял свой кастельяно алеманскими выражениями, особенно тогда, когда обстановка требовала словечка покрепче. Так что, хотя произнести высокопарную речь в ратуше какого-нибудь Аугсбурга я бы не рискнул, но простой разговор осилю. Впрочем, многого от меня и не требовалось.
– Буду счастлив служить своему императору – сказал я, безбожно коверкая слова, и на этом аудиенция закончилась.
Обратиться к нему на кастельяно или по латыни я не решился. А ведь мы с императором, тогда еще только будущим, встречались и раньше в новой столице Испании. Возможно и он меня видел, но вряд ли вспомнит, ведь тогда я еще не был уродом.
Глава II. Как я встретил рабби
– Пойдешь с Государем в гетто – приказал Ланг.
Приказ главного императорского камерария, это приказ самого Государя и я молча склонил голову: мол слушаю и повинуюсь. Но любопытство взяло верх.
– Что такое “гетто”, господин Ланг? – спросил я.
– Филипп, просто Филипп – благосклонно произнес Ланг – Ты что, забыл Сент-Анжело?
Забыть последний оплот госпитальеров было бы сложно.
– А “гетто”, это всего лишь еврейский квартал в Старом Городе. Государь хочет поговорить с одним из их раввинов. “Раввин” у иудеев, если ты не знаешь, это нечто среднее между попом и учителем. Этот же самый знаменитый из всех и зовут его Йехуда Лёве Бен Бецалель.
Это имя мне ничего не говорило, но расспрашивать и дальше могущественного камерария было бы неразумно. Не первый год живу на этом свете и понимаю, что дружба дружбой, а к власть предержащим, даже если они всего лишь камерарии, лучше зря не лезть и уж точно – не навязывать им свою дружбу. Поэтому я молча поклонился и пошел готовить своих гвардейцев. Нам предстоял переход, хоть и короткий, но пересекающий сразу два города.
Я только-только начал обживаться в Праге, но уже успел узнать, что существует два места с этим названием. Имперская Прага, которую местные называют странными словами “Градчаны” или “Пражский Град”, расположена на левом, высоком берегу Влтавы, как и полагается укрепленному бургу. Это блестящий город королей, рыцарей, попов и мошенников. Вот только не знаю, к которому из этих благородных сословий следует отнести меня. Впрочем, хоть я и живу поблизости от императорского дворца, но окружают меня не блестящие вельможи, а златокузнецы, оружейники, пекари и прачки. Ну и, разумеется, алхимики, которых тут хоть пруд пруди. Такова она, наша Злата уличка, тихий островок простой жизни среди имперского блеска, хоть и внутри городских стен. Но есть и здесь свои предместья, называемые почему-то “Малым Городом”. Они лежат далеко внизу и наверняка страдают от весенних паводков.