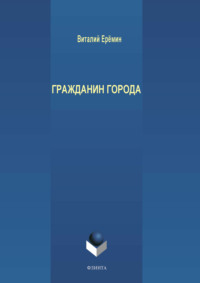Полная версия
Высший суд
– Я ж говорю, ты удивительная. Тебе трудно соответствовать. А это знаешь, как сковывает.
– Ну да, ты ведь и без того скованный. Ну вот еще поговорим, а потом ты уж раскуйся и пригласи меня к себе на чашечку кофе. И мы снимем с тебя все железа. Или все не получится?
Олег слушал ее и хмурился. А она вдруг стала серьезной.
– Но вообще-то у меня самые серьезные намерения. Несмотря ни на что. Нам можно попробовать. У нас должны быть красивые и умные дети. Ничто так не связывает, как красивые умные дети.
Олег шумно выдохнул.
– Ничего себе! Знаешь, рановато мне иметь детей. Надо сначала крепкий бизнес создать.
Женя зажгла новую сигарету.
– А я хочу. Дети вырабатывают нежность и тут же ее потребляют. Хотя не только они потребляют. Когда долго нет детей, любовь атрофируется. А когда дети наконец появляются, нежность уже плохо и вырабатывается, и потребляется. Потому что то ли у него, то ли у нее уже кто-то есть на стороне, и вся потребность в нежности удовлетворяется там.
– Это откуда ж такие мысли? – Олег смотрел с прищуром.
– Я бы могла сказать, что от верблюда, но я отвечу всерьез. Я видела весь этот маразм в семьях подруг и в своей семье. Вся наша жизнь – море этого маразма. Слушай! – воскликнула она восторженно. – А может, ты вообще не любишь детей?
– Просто, я думаю, не рановато ли? – замялся Олег.
– Заводить, может, и рановато. Не прямо же сейчас, конечно, – отвечала Женя. – А в принципе, почему не прикинуть, если всерьез относиться. Я вот смотрю на тебя и думаю, какие у нас могли бы быть дети. И ты не исключение. Я и на других так же смотрю. Слушай! – она снова воскликнула. – А может, ты просто боишься маленьких детей?
– Ну почему? – Олег перемялся задним местом на стуле. – Я люблю детей, только вообще, а если конкретно своих, то боюсь их.
– Вот и моя подруга, страшно любит собак, но боится завести, боится, что укусит, – выпалила Женя. – Ну что? По-моему, ты не совсем безнадежный.
– Ну спасибо, – обиженно сказал Олег.
– Ты же в бога веруешь, а значит у тебя должно быть религиозное отношение к семье. К жене и детям. Вера в бога ведь должна передаваться. Я правильно понимаю?
Олег развел руками в знак согласия.
– Ну вот. А я вот неверующая, но согласна покреститься и все такое, чтобы быть во всем заодно. В принципе, согласна. Ты же опять, наверно, думаешь, не рановато ли я об этом. Только не говори мне снова, какая я удивительная. Это звучит, как чокнутая. Я просто откровенная и инициативная. Чего тянуть, играть, изображать, притворяться? Все равно придем к тому, к чему предопределено прийти. Я тебя, наверно, забиваю. Но ты освоишься. Я дам тебе освоиться. Это же в моих интересах. Мне должно быть интересно тебя слушать. Если не будет интересно, я просто не смогу влюбиться. – Женя остановилась. – Кажется, я слишком рванула вперед. – Ты-то сам хочешь жениться – в принципе, не обязательно на мне?
Олег озабоченно и беспокойно огляделся.
– Конечно, пора уже. Мне уже двадцать четыре с половиной.
– Только по возрасту? Или есть какая-то цель?
Олег смотрел растерянно. Поднес бокал с вином ко рту, рука дрожала.
– Если дети пока не нужны, то какая надобность в женитьбе? – весело напирала Женя. – Если нужна женщина регулярно, то можно и без женитьбы.
– Я ж сказал, мне не нужна любая женщина, – уже раздражался Олег.
– Ага, но я тебе понравилась, только когда проявила инициативу. И детей со мной ты не хочешь. Значит… Значит, ты хочешь иметь в браке со мной то, что можешь иметь и без брака. Зачем тогда нам брак, правильно? Логично?
Олег помотал головой:
– Интересная у тебя манера рассуждать. Ну и что теперь? К чему мы пришли? Что мне делать?
Женя рассмеялась, загасила половину сигареты и положила в рот жевательную резинку.
– Это ты меня спрашиваешь?
Годовщина любви
Годовщину совместной жизни Марина и Марат решили отметить без гостей. Накупили вкусняшек, стол получился, как в ресторане, оделись во все лучшее, зажгли свечи, включили нежный музон, сдвинули бокалы с испанским вином.
– Поздравляю, солнышко, – сказал Марат.
– Поздравляю, масик, – сказала Марина. – Как хорошо, что мы одни.
– Где-то я читал, что человек живет исключительно для удовольствий, – сказал Марат. – Даже если при этом жертвует собой ради других. В этом и заключается вкус к жизни. А в самом деле, что человеку надо? Вкусная еда, вкусная женщина, ну или мужчина, вкусная работа. Все это у нас есть.
Довольный собой, он снова наполнил бокалы. Марина, глядя на него, озадаченно моргала.
– Люблю тебя, вкусняшка моя, – сказал Марат и для убедительности звонко чмокнул губами.
Марина чокнулась с ним и выпила, все еще озадаченно моргая. Марат наконец-то уловил этот взгляд и сделал лицом вопросительное выражение.
– Говоришь, человек живет ради удовольствий, даже если жертвует собой ради других. Это как понимать? – спросила Марина.
– Это цитата, солнышко, – сказал Марат, похрустывая кольцами кальмара.
– Понятно, что цитата, – несколько ехидно сказала Марина. – Но смысл какой! Я вот теперь думаю: ради каких других он жертвует собой? Если ради меня, ну так бы и сказал.
– Действительно, есть какая-то двусмысленность, – согласился Марат. – Прости, не бери в голову. Как ты, Мариша, умеешь подмечать разные тонкости!
– Как хорошо, что мы одни, и некому это услышать, – сказала Марина. – Иначе начали бы толковать твою цитату в меру своей испорченности.
– А чья была идея никого не звать? Твоя!
– А почему? – подхватила Марина. – Потому что все наши друзья уже женаты по второму разу, а двое даже по третьему. Если развод считать преступлением против святости семьи, то все они рецидивисты. Зачем нам такая компания в такой день? Они ж тайно или явно желали бы, чтобы мы стали такими же рецидивистами.
Марат даже закусывать перестал, застыл с полуоткрытым ртом.
– Какая же ты у меня умничка!
– Ах, Марик, я не у тебя, я у себя умничка, – вздохнула Марина. – Точнее, у нас.
– Как же ты умеешь умилять, удивлять и смешить, – сказал Марат, принимаясь за кальмары.
– Приятно удивлять, – поправила Марина. – Мне надо было родиться мужчиной.
Марат снова застыл с полуоткрытым ртом.
– Вообще-то, приятно удивлять, смешить и умилять должен мужчина, – объяснила Марина.
– Разве я этого не делаю? – озадачился Марат.
– Делаешь, – сказала Марина.
Она ничего не ела, только пила по глоточку вино.
– А ты чего не ешь? – удивился Марат.
Марина заливисто рассмеялась.
– Некогда закусывать. Говорю тосты. Про себя, молча.
– Во как! – озадачился Марат. – Может, назовешь хотя бы один тост.
– Легко. Обычно люди пьют за избавление от проблем, а я говорю себе: учись жить с проблемами и пей за это.
– Я тебя сегодня не узнаю, – пробормотал Марат и отодвинул кольца кальмаров. – Что-то случилось?
– Случилась годовщина нашей с свадьбы, – просто сказала Марина.
Марата от этих слов передернуло.
– Мариша, а поконкретнее можно? – потребовал он, утирая губы салфеткой.
– Можно, – сказала Марина, наливая себе вина. – Тебе известно английское слово unorius?
Марат нахмурился, напрягая память.
– Что-то о какой-то странной любви, нет?
– Почти угадал. Нежная любовь мужа к жене. Аналога этому слову в других языках, говорят, не встречается.
Марат оживился, отобрал у Марины бутылку, сам налил ей и себе.
– Как хорошо, что вспомнила. Это как раз обо мне. О моем чувстве к тебе. Выпьем за unorius. Отличный тост!
Он выпил бокал залпом. Налил до краев и снова выпил. Снова налил, но прервался.
– А ты чего не пьешь?
– А у меня тост все тот же, – сказала Марина. – Дай мне бог и дальше уживаться с моими проблемами.
Марат наморщил ум и все понял. Хотел было взорваться, но притормозил.
– Красиво задумано. Мариша, а ты все просчитала? Потом ни в чем не раскаешься?
– Ну, если скажешь, в чем я могла бы раскаяться… – Тут она вспыхнула. – Вот о чем я могу пожалеть? Ну подскажи. Может, я чего-то не вижу, не чувствую, не понимаю? Ну что ты молчишь? Что тебе мешает сказать? Ничего тебе не мешает. Тебе просто нечего сказать.
Марат наполнил бокал, но не вином, а коньяком. Медленно выцедил. Марина настороженно наблюдала.
– Как хорошо, – выдохнул он. – Как хорошо, что мы не сделали ребенка. А может, плохо? Тогда ты бы не устроила этот бэнц. А, Мариша?
Марина подавленно молчала. Трудно своими руками рушить гнездо из-за нехватки любви, не зная толком, бывает ли она вообще, эта хватка, скорее всего, нет.
Марат уловил трудности жены и сказал задушевно:
– Знаешь, Мариша, я давно уже понял простую вещь: не надо относиться серьезно ни к чему. Даже к любви. Когда сильно любишь, теряешь себя. Не люби сильно, и не в чем будет раскаиваться. Ну чего тебе не хватает? В половой конституции мы сходимся. Сколько звездочек зажгли долгими ночами. Ну, если ребеночка тебе хочется, это тоже не проблема, – Марат протянул Марине лежавший наготове альбом с фотографиями щенков. – Выбирай любого. И будешь ты у нас дамой с собачкой.
Марат хотел рассмеяться своей шутке, но поперхнулся взглядом Марины.
Досрочка
Журналисту Леднёву пришло письмо от Катковой. У нее, воровки и наркоманки, оказался почерк отличницы. Она писала: «Михаил, вы не поверите, но сейчас для меня не так важно, освободят меня или не освободят. Главное, что в моей жизни вдруг появился человек, который отнесся ко мне небезразлично».
«А ведь это сюжет», – подумал Леднёв. Он доказывал в очерке, что эта девушка достаточно заплатила за свое преступление, и держать ее дальше в неволе – никчемное юридическое злопамятство. Он просил Верховный суд сократить ее срок до отбытого. Написал сдержанно и в то же время проникновенно. А потом добился встречи с председателем Верховного суда, и тот обещал отнестись со всем вниманием. К тому же редакция поддержала его письменным ходатайством. Газета была солидная, отказать ей было невозможно.
Леднёву еще не приходилось участвовать в освобождении человека. Взбудораженный, он бродил по берегу неспокойного октябрьского Черного моря. Это был санаторий «Айвазовский» близ Алушты, где раньше наслаждались морем, фруктами и царским комфортом только большие партийные бонзы. Он приехал сюда на случайно освободившееся место, всего на неделю. Но ему хватило бы и одного часа, чтобы сравнить, где находится он, и где находится Каткова. Она – в женском зверинце (а как еще назвать колонию, где женщины кругом в клетках-локалках), он – в раю. И ему было неловко, стыдно. Хотя, казалось бы, с чего вдруг? Кто она ему, эта Каткова? Никто.
Купанье в море не обещало удовольствия. Он пошел в бассейн с морской водой и отвел душу. А вечером получил от Катковой другое письмо. «Михаил, я все думаю: это, конечно, судьба. Не знаю, как дальше повернутся события, освободят меня, или мне не повезет, я буду испытывать к вам чувство, которое никогда ни к кому не испытывала. Я презирала мужчин, и думала, что это навсегда. И вот… Это точно судьба».
А на следующее утро еще письмо. «Я нашла в газете вашу фотографию и теперь она всегда при мне. Как только остаюсь одна, достаю ее… Не бойтесь, я вас не подставлю. Это письмо уйдет к вам на волю не обычным путем, а человеку, который его пронесет через вахту, я верю, как самой себе».
Ошибок было мало, в основном не хватало запятых. Но ни одного жаргонного словечка. Это письмо могла написать нормальная девушка, никакая не зэчка. Но это написала именно зэчка, которой вдруг засветила досрочка – выскочить раньше звонка на целых четыре года. В ней бродит хмель неизбежного освобождения, не больше того. Так думал Леднёв, сидя в огромной лоджии своего номера перед панорамой моря.
Леднёв был только отчасти журналист. Его первой профессией была криминология. Наука о психологии преступников. Он просто обязан был сейчас размышлять о Катковой и во всем сомневаться. Ее освобождение было для него вопросом личного престижа. Если она снова сядет, это обязательно попадет в печать. «Хозяин» колонии, который имел на Каткову свои виды, пообещал Леднёву, что он об этом побеспокоится.
Леднёв легко мог отказаться от идеи освободить Каткову, избавить свою репутацию от угроз. Но он полез на рожон. Зачем он это сделал? Криминологу в пору было размышлять сейчас о своей психологии. Конечно, ему стало жалко, что такая яркая девушка пропадает среди изуродованных неволей особо опасных рецидивисток. Пропадает и неизбежно пропадет. Оставшиеся до звонка четыре года наложат печать на ее красоту. Но ведь не факт, что в течение этих четырех лет она не раскрутится снова, и ей не добавят срок. (Однажды это уже случилось.) И тогда ей конец. Вот, собственно, и все, что его заставило.
Жернова Фемиды работают неспешно, особенно в обратную сторону. Только через два месяца Верховный суд сократил срок Людмиле Катковой. Но почему-то не до отбытого, а до шести лет, оставив ее отбывать еще месяц. Все, кто ей завидовал, получали время для издевательств над ней. Все, кто не верил, что она не вернется, могли успеть доказать это провокациями. «Лучше бы мне судьи отказали», – писала Каткова.
Леднёв не мог набраться терпения и пожелать того же девушке. Нужно было что-то придумать. Он обратился в тюремное ведомство с просьбой провести криминологические исследования в этой колонии. Почти наверняка ему бы отказали. Но тут очень кстати появилась американка Джейн, фотограф, охотница на тюремную экзотику. Отказать ей было трудней. Так они оказались в Березниках, в колонии особого режима для особо опасных рецидивисток.
В первый же день Леднёв обнаружил у себя в кармане пиджака записку «Будь осторожней. С тобой может всякое случиться. Бабы очень ревнивы. Твою подопечную одни очень любят, как и она их, а другие очень ненавидят за то, что она их уже не любит».
Обратиться к «хозяину» Леднёв не мог, подозревая, что тот знает о записке. Снова нужно было что-то решить. Леднёв позвонил Председателю Верховного суда и спросил: если суд признал чрезмерно строгим срок Катковой, почему она досиживает в этой ужасной колонии?
Верховный суд (на этот раз срочно) вынес решение перевести Каткову в колонию общего режима в Перми. А Леднёв сказал «хозяину», что, если до этапа с Катковой что-нибудь случится… «Хозяин» велел немедленно вывезти Каткову от греха подальше.
Каткову увезли, а Леднёв обнаружил у себя в кармане еще одну записку: «Переживаешь за эту тварь, а зря. Мужики ее уже давно не интересуют».
За день до освобождения Каткова позвонила Леднёву.
– За мной прилетит из Ташкента отец. Но я очень хотела бы вас увидеть на прощание. Ведь вам надо убедиться, что я освободилась без проблем.
Отец снял номер в пермской гостинице. На том же этаже поселился Леднёв. Каткова потребовала, чтобы ее освободили ровно в 24 часа ночи, а не утром, как принято. В час ночи отец и Леднёв привезли ее из колонии в гостиницу.
Все были на пике эмоций, но держали себя в руках. В номере отца был накрыт журнальный столик, но выпивать не стали. Не отпускал страх провокаций, вообще, в освобождение верилось с трудом. Казалось, в любую минуту в номер войдут менты и объявят, что благодеяние отменяется. Попили чаю, Леднёв засобирался к себе, Каткова вышла его проводить и что-то замялась. Сказала, глядя прямо в глаза и перейдя на «ты»:
– Я знаю, что тебе писали. Все так и все не так. Я хочу, чтобы ты в этом убедился. Я сама хочу испытать себя с тобой. Именно с тобой. Пойдем к тебе. Я сказала отцу, он меня понял.
– Хочешь отблагодарить? – прямо спросил Леднёв.
– И это есть, – так же прямо ответила Каткова. – Я потом опишу тебе свои чувства.
Она долго мылась в душе, но полностью смыть с себя запах зоны ей не удавалось. Она сама ощущала это и от бессилия плакала. Она тянула время и легла в постель нервная, зареванная. Плач перешел в рыдания. Когда Леднёв стал ласковым и нежным, разрыдалась еще сильней, а потом притихла. Порывалась что-то сказать, и наконец сказала:
– Ну я как бы отблагодарила тебя. А ты? Добавил себе опыта?
– Тебе не о чем переживать, у тебя все хорошо, – сказал Леднёв.
– Твоя жена догадывается, где ты сейчас?
– Конечно. Она тоже криминолог.
– А если я стану криминологом?
Леднёв молчал. Он не строил фантастических планов.
– Появился, освободил и исчез, – хлюпая носом, проговорила Каткова и ушла в ванную. Когда вернулась, легла отстраненно и пожелала спокойной ночи.
Утром отец постучал в номер. Они опаздывали на самолет.
– Люда не подведи меня, – хотел сказать Леднёв, но только приобнял ее.
– Не сомневайся, – прошептала ему на ухо Каткова.
В так называемые места лишения свободы она не вернулась, но и о своих ощущениях не написала.
Американка из Парижа
В Березники, где находится (по сей день) женская колония для особо опасных рецидивисток, они поехали поездом в одном купе: Леднёв, Джейн и переводчик Дима, паренек лет двадцати.
Леднёв и Артем выложили на столик домашние припасы: жареную курицу, вареные яйца, ну и так далее. Джейн достала из рюкзачка помидоры, огурцы, сыр и какое-то странное маленькое устройство. Это были весы. Она взвесила помидор, огурец, кусочек сыра и стала отстраненно вкушать, глядя в окно. Стало ясно, что есть и разговаривать одновременно она не привыкла.
Однако же краем быстрого глаза она замечала, что Леднёв и Дима переглядываются, и она что-то сказала переводчику по-французски. Леднёв вопросительно уставился на Диму, требуя перевода.
– Она сказала, чтобы вы прекратили так смотреть, иначе она расценит ваши взгляды, как нападение, – с испуганным лицом перевел Дима.
Леднёв удивленно округлил глаза.
– У этих пиндосов совсем нет чувства юмора, – сказал он переводчику.
Джейн перестала жевать и сказала по-английски:
– Я не пиндос, я уже десять лет живу в Париже. И у меня есть чувство юмора. Мы заключили сделку. Я выдала вам аванс. Извольте выполнять договор без этих ваших русских штучек.
Леднёв изменился в лице, полез в карман, достал бумажник и положил перед Джейн триста долларов.
Американка затрепыхалась:
– Вы отказываетесь от сделки?! Но мы уже едем!
– Я отказываюсь от оплаты, – сказал Леднёв.
Джейн хмуро смотрела ему в глаза, прочла в них, что он сделает свое дело, несмотря на скандал, и с гордым видом положила триста долларов в свой кошелек, прошипев:
– Что ж, окей!
Но уже через минуту спросила:
– Вы обиделись на меня?
– Ха-ха-ха, – раздельно сказал Леднёв. – Я не обезьяна, чтобы обижаться. Но я пополнил свой багаж представлений о характере американок. И это только начало. Ведь у нас впереди еще семь дней, не так ли, мэм? А вы подумали, я в пролете? Я хорошо на вас заработаю, Джейн.
Переводчик Дима забился в угол купе и слушал этот разговор со смешанным выражением ужаса и восторга.
– Что такое в пролете? – нервно спросила его по-французски Джейн.
Дима пояснил. Американка успокоилась.
– Все будет чики-чики, – сказал Леднёв.
– Что такое чики-чики? – спросила Джейн переводчика.
– Все будет окей, – сказал Дима.
– Ну это еще как фишка ляжет, – развлекался Леднёв.
– Фишка – это дело случая, – перевел Дима, не дожидаясь вопроса.
– Ясен болт, – сказал Леднёв и пошел в тамбур покурить.
У него было ощущение, что он всей женской части Америки нащелкал по носу.
Они ужинали в буфете гостиницы поздним вечером без переводчика. Джейн ела свои помидоры-огурцы с сыром и не выпускала из рук рюкзачка, где теперь постукивали кассеты с отснятой фотопленкой. Она наснимала столько экзотики… Конечно, не бесплатно. Совала ментовкам чином ниже майора американские сигареты, жвачку. Чинам выше – косметику. Леднёв ненавидел себя за откровенность. Ну зачем он при первом знакомстве посоветовал запастись коррупционными сувенирами?
Видя теперь довольную физию американки, сказал:
– А вы знаете, почему вам все разрешают?
Джейн замерла с помидором во рту.
– Все равно вам засветят все пленки.
Рюкзак мгновенно оказался у Джейн на коленках, прижатым к животу.
– Шутите? Вы специально! – прошипела она.
Леднёв пожал плечами:
– Мое дело – предупредить.
– Что же мне делать? – спросила она после мрачного размышления. – Таскать всюду рюкзак с собой? Спать с ним в обнимку?
– Женщина не должна спать с рюкзаком, – сказал Леднёв. – А вот всюду держать рюкзак при себе – это хорошая идея. – И добавил после паузы. – Вы понимаете, что я для вас сделал сейчас, несмотря ни на что?
– О, да, да, конечно, вы меня спасаете, – проговорила Джейн.
Леднёв смотрел на нее, мягко говоря, снисходительно. И это ей снова не понравилось. Но теперь она держала свои протесты при себе. Только это отразилось на ее аппетите. Она положила контейнеры с овощами в рюкзачок.
– Можно выпить по бокалу красного вина, – предложил Леднёв.
– Можно, – согласилась Джейн. – Я привыкла к этому в Париже. – В обед и на ужин – бокал вина. Вы бывали в Париже?
– Я – как Пушкин, – сказал Леднёв.
– О, вы пишете стихи?
– Пушкин ни разу не был за границей, – сказал Леднёв. – Он пробовал француженок у себя дома, в смысле, в Санкт-Петербурге.
– Я слышала, он был похотлив, – сказала Джейн.
– Да, он знал толк в женщинах, поэтому его тянуло на худеньких. А это правда, что француженки все тощие и почти не красятся?
Джейн непроизвольно дернулась, как бы оглядывая себя.
– В этом смысле вы настоящая француженка, Джейн, – сказал Леднёв, испытывая что-то вроде животного инстинкта.
Американка сурово поджала губы. В своей обычной мешковатой одежде юнисекс, без косметики, она в эту минуту как никогда была похожа на паренька.
«Э, да тебе, похоже, мужик и не нужен», – подумал Леднёв. И теперь ему стало окончательно ясно, с чего вдруг американка так цвела сегодня, снимая самую красивую рецидивистку этой зоны и заставляя ее оголить то ноги, то грудь.
– Плохо, когда женщина ограничивает себя в искушениях, – меланхолично произнес Леднёв. – Женщина должна пленять и пленяться.
Леднёв не знал, как сказать по-английски последние слова и произнес их по-русски, но Джейн, похоже, догадалась без перевода.
– А вы похоже, специалист не только по криминальным женщинам. Представляю, как вы морочите головы русским бабам.
Она так и сказала: «бабам». И это разозлило Леднёва.
– Джейн, – сказал он, переходя на «ты». – Ну давай на чистоту. У меня никогда не было американки, у тебя не было русского. Ну давай попробуем. И сразу станем друзьями.
– Шиит! – сказала-прошипела Джейн и с рюкзачком под мышкой пошла-побежала к себе в номер.
Кошечка
Лучше всего знакомиться в бассейне. Ну сами подумайте, разве не так? Ныряю в воду на дорожке, где незнакомка плывет размеренным брасом. Она переходит на другую дорожку, но плывет моим курсом. Ускоряю движение. Но женщина не дает себя догнать. Сильнее загребаю руками и ногами. Не помогает. В конце дорожки незнакомка, оттолкнувшись от бортика, плывет обратно. Я делаю то же самое. Теперь мы соревнуемся уже открыто. Но я по-прежнему отстаю.
Таинственной пловчихе надоедает играть в поддавки, она стремительно уходит от меня. Доплыв до конца дорожки, сильным движением выходит из воды, снимает очки, стягивает с головы шапочку, волосы спадают на плечи. Так это же наша редакционная «англичанка» Надежда Семеновна! Ведет курсы английского языка, которые я посещаю от случая к случаю. Черт возьми, где у меня были глаза раньше?
Вечер в ресторане дома отдыха. За соседним столиком ютится скромно одетая «англичанка» Надя. Она и на уроках в редакции особенно не выряжается. И от этого только выигрывает. Если красота сама по себе наряд, зачем еще какие-то тряпки? Она незамужняя, это факт, думаю я про нее, замужние по домам отдыха не шастают. С замужними я принципиально не связываюсь. Придерживаюсь принципа, что не по-мужчински кому-то наставлять рога. В чужой прудок не пускай неводок. Мало ли свободных баб?
Итак, Надя, Наденька. Хорошее имя. Малость устарелое, но теплое. Сколько ей? Тридцать? Тридцать пять? Хорошо и то, что преподает английский. Мне как раз не хватает разговорной практики, дающей навык беглой речи.
К Наде подсаживается большая женщина с грубым лицом, бухгалтер издательства. Зоя, или Золушка. Голос у нее был низкий, прокуренный. К тому же она глуховата, и потому говорит громко, поглядывая на меня.
– Ну что тебе сказать, незабудка моя? Конечно, не первой свежести, но на морду не урод. Хотя по сравнению с твоим Иннокентием Виккентьевичем, конечно, дохловат. Кешу твоего можно было терпеть за патологическую доброту. А что этот собой представляет, еще неизвестно.
Неужели это она обо мне? Косит-то глазом в мою сторону. И голос повышает.