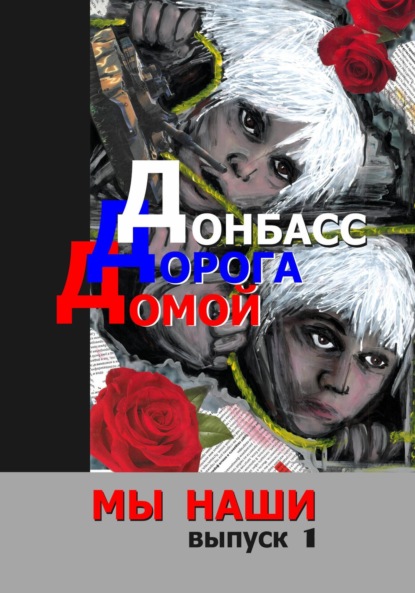Полная версия
Zа право жить
Одна секунда, а все уже понял. Солнце одно, хлеб один, земля одна, Бог один. И только люди – разные.
Березка щелкнул предохранителем.
Люди – разные. Кровь одинаковая, слезы одинаковые, пыль одинаковая. Мамы одинаковые. Жены. Дочери.
Любовь одинаковая.
А люди – разные.
Братка, как же так-то?
Флора языком потрогал сломанный зуб. Зуб шатался. Надо выдернуть и мосты поставить…
Березка передернул затвор. Ничего лишнего он не чувствовал. Приказ. Дело привычное.
Флора захотел закричать, но опять стало стыдно, и губы слиплись. А еще он захотел попросить воды и минуту, но тут на него упала вечность.
Березка сделал шаг назад. Поставил «калаш» на предохранитель. Подошел к телу Флоры. Пощупал пульс на шее. Хотя чего щупать, вон как разворотило. Запачкался в теплой крови. Обтер руки о траву, потом о драные штаны Флоры. Сел рядом с телом. Достал сигарету. Покосился на Флору. Закурил. Опять покосился. Снял «калаш» с плеча. Снял с предохранителя. Посмотрел в жуткую темноту ствола. Прислонился лбом к еще горячему металлу. Закрыл глаза. Нащупал левой рукой спусковой крючок. Выплюнул окурок. Погладил большим пальцем крючок. Вытащил флягу. Глотнул теплой воды. Сунул флягу обратно.
Опять запел жаворонок.
Березка щелкнул предохранителем, тяжело встал, закинул автомат за спину. Парой пинков столкнул тело Флоры в балку.
Где-то снова хлопнул миномет.
Олисава Тугова
ПТИЧНИЦА
– Что вы чувствуете, когда убиваете людей? – вихрастый парнишка-военкор старается заглянуть мне в глаза и поэтому неловко сгибается в три погибели перед тем, как приземлиться на гнилые доски. Я сижу прямо на земле и чую спиной бетон стены, нагретой солнцем. Мне, наоборот, хочется распрямиться, вытянуться. Когда наконец отвлекаешься от экрана смартфона, понимаешь, как устали от напряжения позвоночник, шея, плечи; замечаешь, как режет глаза от света, ветра и от слёз после яркости дисплея, выкрученной на максимум. Думаю, что ему ответить. Вот бы изобразить брутальную непроницаемость, повернуться вполоборота, посмотреть в даль и пафосно бросить:
– Отдачу!
На самом деле ничего я не чувствую. Вглядываюсь в нерезкие пиксели на экране, чтобы привычно распознать в них технику, живую силу противника, раненых или трупы. Мое дело – разведка, корректировка. К моей лёгкой «птичке» сейчас не прицепляют сбросов. Да и когда прицепляли – подкараулить бэху укропов или группу на ротации – это было скорее охотой, похожей на компьютерную игру, где за размытыми пикселями не видишь человеческих судеб. Существуют только вражеские единицы, которые нужно уничтожить. Тогда исчезаешь из реальности, забываешь следить за работой арты, потому что если прилетит, то прилетит – тут полнейший фатализм. Единственное, что отслеживаешь всегда – днем, ночью, во сне, на отдыхе, в наряде, на задании – это мерзкий жужжащий звук чужого БПЛА. Звук опасности, звук смерти.
Паренек ждет ответ и поглядывает на небо. У него так и не вышло поймать мой взгляд – не люблю встречаться с кем-то глазами. Зато я смотрю на него. Лет двадцать ему. А то и меньше. В неуставном новеньком камуфле. На рукаве затертый, выцветший шеврон: «Родился орком – защищай Мордор». Шеврон с пареньком не сочетается настолько, что я улыбаюсь:
– Да я людей и не убиваю. Только врагов.
Не повезло ему со мной. Приехал, вишь ли, на фронт – не на ЛБС, конечно, но всё-таки километров двадцать до зоны активных боев, тоже поступок для мирного – хотел интересное героическое интервью взять, а ему меня подсунули, чтобы под ногами не мешался. Сплошное разочарование, наверно.
Августовское солнце высушило бурьян, он опутан блестящей паутиной, и в нем шуршит ветер. По ветру лежат ленточки маскировочной сети, натянутой над нами. На вытоптанной, потрескавшейся земле мельтешат солнечные блики. Вот бы снять тяжелые тактические кроссы и пойти босиком на соседний ставок купаться. Но там всё заминировано. А в бурьяне, метрах в пяти от места, где мы сидим, со вчерашнего дня валяются несдетонировавшие части кассетных боеприпасов со вздыбленными лопастями. Саперы должны приехать. Но пока не доехали.
Я встаю, отодвигаю железную, ржавую, посеченную мелкими осколками дверь пункта нашей временной дислокации – это бывший укроповский опорник. Из него пахнет сыростью, плесенью и разбухшим гнилым деревом. Выкатываю из тёмного угла полосатый, глянцевый арбуз, бью его с размаху о какую-то арматуру и разламываю с сочным хрустом. Парнишка подскакивает и ловит половину арбуза, которую мне становится неудобно держать. А потом мы просто сидим на земле и вычерпываем ложками красную сладкую мякоть.
– Знаешь, какое первое осознание было у меня, когда воевать приехала? Не такое, которое умом понимаешь, а такое, которое проживаешь всем своим существом. Это осознание хрупкости человеческого тела. Оно ведь, правда, очень слабое. Непрочное. Кожа, кости, кровь, мышцы… Вот, к примеру, сидели с парнишкой, чай пили. Прилёт. Осколочек маленький, меньше сантиметра и крови-то почти нет, а на глушняк. Парнишка – 200. А у него ещё чай не допитый стоит. Горячий, не успел даже остыть. От этого понимания люди становятся другими: они тебя не спросят, что ты чувствуешь, зато спросят, не голодный ли, и постараются обогреть, накормить и спать положить, чтобы ты отдохнул. И к смерти проще отношение. Осознаешь, что все мы смертны. И смерть – это естественно. Ей не обязательно быть героической, а жизни не обязательно быть значимой. Пустая жизнь, глупая смерть ничуть не умаляют этих двух категорий. Хоть оценивай, хоть не оценивай. Жизнь – есть жизнь, а смерть – есть смерть. Паренек из окопа в соседнюю зелёнку вылез по естественной надобности. А тут обстрел. Так и погиб со спущенными штанами. И он от этого не стал меньшим героем, чем тот, который собой товарища закрыл. Просто у одного обстоятельства так сложились, а у другого – этак.
– Тогда, наверно, и убить проще, раз «обстоятельства так сложились»? – мальчишку-военкора явно интересуют какие-то морально-психологические стороны войны. Он плюется арбузными семечками в злобных августовских мух и всё ещё пытается поймать мой взгляд.
– Наверное, – соглашаюсь я.
Впервые я убила, когда мне было десять.
Обычное детское лето в девяностых – это лето в деревне у бабушки. В настоящей деревне, большой, с деревенскими ещё крепкими домами, изукрашенными причудливой резьбой светелками, палисадниками с цветущими флоксами, гвоздиками, пионами, с хлевами и птичниками, в которых держали скотину, и с огромными огородами, распаханными под картошку. Вдоль деревни шла широкая улица, на ней встречались все деревенские дети – играли в прятки и в лапту, сбивались в дружные ватаги для походов в лес, на пруды, для посиделок на крыше амбара. По чужим домам детям ходить было не принято. Поэтому у меня вызывало особенное любопытство, а что там – за высокими заборами – у других бабушек. Особенно у одной. Её звали баба Шура. Она была высокой, худой, но очень сильной и жилистой старухой, на её прямоугольном лице застыло беспристрастное выражение – ни единой живой эмоции никто из детей никогда не видел. И двигалась она тоже жутковато: ритмично, как выверенный механизм, не совершающий лишних движений. Не бабка – Терминатор. Она каждый день приходила к моей бабушке, потому что у нас был черно-белый пузатый телевизор, и они вместе смотрели «Просто Марию». К бабе Шуре на лето приезжали два внука. Володя лет тринадцати и Саша лет десяти. Оба ушастые, побритые налысо, со смешными тонкими чёлочками. У Володи всегда спадали огромные не по размеру треники, вытянутые на коленках, и он подвязывал их кушаком от цветного халата. А Саша лихо вытирал сопли рукавом – от запястья до локтя.
Баба Шура, очевидно, больше любила старшего. Если она поручала внукам принести воды, наколоть дров, встретить с пастбища корову или прополоть морковь, то разговаривала только с Володей. Саша хотел быть взрослым, как Володя, и носить бейсболку с сеточкой и с кривым козырьком. Поэтому, когда баба Шура подошла к нам с Сашей, увлеченно ловивших в камышах лягушек, и сказала размеренно и чётко: «Санька, надо курицу на суп зарубить», – мы опешили. Саша обалдел от счастья и оказанного ему доверия.
Пока мы вылезали из пруда, то постепенно осознали всю сложность задачи. Мы были городскими детьми и никогда никого не убивали. Я уже прикидывала, что может быть лучше пойти помочь своей бабушке – огурцы, например, собрать… Но любопытство, а что там у бабы Шуры в доме, было сильнее.
– Зайдем в дом, молока попьем, – разумно предложил Саша.
Я любила отстоявшееся в холодке молоко, когда сверху, на горлышке трехлитровой банки собрались кремовые жирные сливки – плеснуть их в чашку и с наслаждением пить.
В доме у бабы Шуры были точно такие же, как и у моей бабушки, межкомнатные ситцевые занавески, разноцветные лоскутные половички, высокие кровати с кружевным подзором внизу и с горой подушек, покрытых белым тюлем, большое зеркало, портреты умершей родни, дозревающие на подоконниках помидоры…
А потом Саша принес коробку привезенных из города машинок. Модельных, разноцветных. Мы принялись катать их по широким половицам. И забыли про курицу.
Хлопнула тяжелая дверь из сеней.
– Санька, где курица-то? – баба Шура смотрела на нас не мигая.
И мы метнулись мимо нее во двор, на ходу застегивая сандалии и не попадая в дырочки сложной застежкой.
– Какую рубить, ба? –издалека тоненько пискнул Саша.
– Белую дуру, которая яица давит, – ответила бабка, не повышая голос, но мы услышали каждое слово.
Саша с трудом выдернул из колоды топор, я стащила с забора сушившуюся там тряпку. В сарайку к курицам мы зашли вооруженные. Они только что лениво ходили из стороны в сторону – и вдруг заметались, заголосили. Почувствовали.
– Вот эту лови, – Саша указал жертву.
И я её спеленала тряпкой. Курица била сильными, когтистыми лапами, орала – и я старалась держать её так, чтобы она не смогла меня клюнуть. Она дрожала под тряпкой. И я чувствовала её живое тепло и её страх. И было совершенно непонятно, как так можно взять и убить её. До этого момента всё казалось игрой, а теперь вот стало по-настоящему.
Саша придержал мне дверь, чтобы я вышла наружу. Я держала курицу, будто спеленутого младенца. По глазам Саши было понятно, что он вот-вот заплачет, он тихо положил топор обратно на колоду. И тут курица извернулась и изо всех сил клюнула меня в руку. Слёзы сами полились не от жалости, а от боли. И нахлынула безотчетная ярость: «Я ее жалею, а она!!!»
Я сунула замотанную в тряпку курицу Саше, схватила топор, скомандовала: «Ложь её и держи за ноги!» и одним ударом отрубила голову. Голова защелкала клювом и упала в опилки. Саша держал испачканную кровью тряпку, в которой ещё дергалась незадачливая птица. Потом отпустил. Мы молча прошли мимо крыльца , Саша постучал в окно:
– Ба, забери на колоде.
На улице звенели удары мяча о биту – ребята играли в лапту.
По укропам можно сверять часы. Ровно в шесть полетели их «подарки». Ложатся стабильно —куда попало, но в радиусе трассы и жилых строений.
В подвал здания-располаги бежать опаснее, чем оставаться на месте. Поэтому мы с военкором прячемся в опорнике, возле которого сидим. Земля гудит и дрожит от прилётов – вибрация идет даже от дальних попаданий. От свиста закладывает уши. Я смотрю в глаза парнишке-военкору и думаю о том, что Володя погиб в Чечне. Война догнала его поколение раньше. Нас с Сашкой она догнала на Донбассе. Сашка ушел добровольцем.
Хватит войны и поколению этого парнишки-военкора, который так внимательно слушал про курицу, жалел её, но не боится обстрелов.
Надежда Сайгушева
НАД ДОНБАССОМ ВОЙНА
Отделилась душа от тела,
Улетела в рай…
Ну, какое убийце дело,
Что на улице май…
Что дрожит, отражаясь, небо
В чистой глади озер,
Караулит кусочки хлеба
Голубиный дозор.
Что пьянит ароматом нежным
Вишен розовый цвет,
И туманом укрыт безмятежным
Украинский рассвет.
Но взрывается глухо и жарко
Над Донбассом война,
На аллеях цветущего парка
Умирает весна…
Мародер
Несколько лет война тянулась вяло. Где-то грохотало и взрывалось. А потом ударило со всей силы!
Объявили эвакуацию. В спешке собирали сумки и чемоданы. Бежали к месту сбора.Автобус уже стоял. Вокруг выли: в салон пускали только женщин и детей.
Жена вцепилась в него, Аленка и Ванька повисли на руках: «Папа, ты с нами…»
– Я потом приеду, догоню вас…
А водитель уже закрывает двери.
Стряхнул с себя жену, ребятишек. Успел просунуть руку в щель, задохнулся от боли. Кто-то подскочил, стали помогать, открыли. Впихнул своих. Даже не попрощались… Автобус, тяжело переваливаясь, покатил, следом за ним – бабий вой.
Потом протащился еще один, голосящий и плачущий, потом еще…
Некстати подумалось: чемодан тоже уехал, надо пойти домой, взять запасной свитер и бритву.
Подойдя к дому, ничего не понял, вяло удивился: из окна кухни торчало дуло танка. На втором этаже метались темные тени. Окно с треском распахнулось, из него стали махать чем-то белым.
В спину ему ткнулось холодное и твердое. Люди с автоматами повели на площадь.
Подумал: «Расстреливать». Нет, расстреливать не стали. Толкнули в толпу. Всем желающим раздавали оружие. Обрадовался: «Будет чем защитить семью». Потом одумался: с оружием из города не выйти!
Выбрался из толпы. Надо искать своих. «Их же в Одессу повезли? Найду!»
Дороги перекрыли. Он то натыкался на посты, то оказывался в центре перестрелки. Метался между ранеными, кого-то перевязывал. Кого-то вытаскивал из-под завалов. Потерял счет часам, а потом и дням.
А ноги куда-то шли. Все еще надеялся отыскать дорогу к своей семье. Ходить по улицам не боялся: умел правильно произносить проверочное слово: «паланыться».
Неба не было. Вместо неба – черный дым. Оказался возле горящего дома. В изнеможении опустился на грязный ящик. Окоченевшее тело потянулось к огню. Кто-то сунул в руки горячую кружку. Жадно начал глотать мутный кипяток. Зажмурился от восторга. Кипяток быстро закончился. Затуманенное сознание прояснилось от голода. Вокруг на таких же ящиках, понурившись, сидели люди. Молчали. У всех одна история.
Один чудак в ярком костюме лыжника скособоченно, как сорока, мелкими шажками ходит от одного к другому, бормочет, пытаясь заглянуть в глаза:
– Оглянулся, а дома нет… Одни щепки… И горит… А там же Танька, дети… –И так – по кругу, снова и снова, от одного к другому.
Когда сидеть стало невмоготу, пошел… куда-нибудь… Искать дорогу к своим. Наткнулся на широкие ступени. В черном проеме не было двери. Люди выходили и входили. Он тоже зашел. Под ногами хрустело стекло, в разбитые окна налетал ветер со снежной крупой.
Темные фигуры копались в кучах разбитой мебели и посуды. Искали что-нибудь пригодное для жизни. Для жизни? А она где-то есть?
Побродил по захламленным помещениям. В дальнем углу наткнулся на запакованные подушки и одеяла. Схватил подушку: может, получится где-нибудь поспать… Нет, лучше одеяла. Их можно обменять на кусок… хоть чего-нибудь… Поесть.
На крыльце споткнулся. Но не упал. Сильные руки подхватили. Много рук… Вырвали одеяла, потащили куда-то. Какая-то тетка вцепилась ему в волосы и злобно кричала:
– Бей его! Не будет мародерствовать!
Притащили, плотно примотали к дереву. Щекой почувствовал холодную шершавую кору. Кто-то орал в ухо:
– Посмотри на меня! Не отворачивайся от камеры! Скажи, как тебя зовут!
Он бы сказал. Да имя свое забыл. И губы почему-то слиплись и не открывались. Тело превратилось в кровавый кусок боли. Голова на тонкой шее от ударов дергалась и тряслась. Он еще успел подумать: «Господи! Забери меня…»
И ушел… в пустоту.
ДорогаПроехали город. Тяжело переваливаясь, автобусы ползли по рытвинам и ямам. Земля за окном все чаще и чаще фонтаном рвалась к небу.
Остановились – дорогу перекрыли танки. Подошли военные – на груди автоматы. Водитель выскочил, стал что-то кричать, замахал руками. Солдат лениво, не целясь, выстрелил в упор. Водитель упал.
Военный залез в кабину, повел сам.
Свернули на проселочную дорогу. Объехали город. Оказались на шоссе. Автобусы медленно продвигались вперед, за ними прятались танки.
Потом все смешалось: дым, пыль, небо, земля. Самых маленьких затолкали под сидения, постарше – уложили на пол. Женщины нависли над ребятишками, прикрывая их от пуль и осколков.
Рация у военного затрещала, он остановился и выскочил из автобуса. Побежал к своим – совещаться.
Зинка, в детстве бойкая девчонка, прыгнув пантерой, оказалась за рулем. И ударила по газам. Автобус «взлетел». Следом кинулся другой, третий…Вдогонку стреляли танки. Последний автобус перевернулся и загорелся.
Слез уже не было. Ребятишки молча таращили глазенки, полные ужаса. А Зинка все давила и давила на газ.
Кругом выло и взрывалось. Потом стихло. Сколько времени мчались по дороге, никтоне знает. Вдалеке опять показались танки. Другие. С большой буквой «Z». Зинка, не оборачиваясь, рявкнула в салон:
– Что-нибудь белое!
А бабы уже махали в открытую дверь всем, что попало под руку. Медленно, осторожничая, подъехали к танкам. Навстречу вышли военные, сняли руки с автоматов, жестами показали: «Не тронем…»
Дальше автобус вел военный, впереди и по бокам прикрывали танки.
Зинка ввалилась в салон. Ее погодки, пятилетний Сашка и шестилетний Лешка, за все время не проронили ни звука. А тут уткнулись в мать. Она обхватила мальчишек.
Затряслась от беззвучных рыданий.
Въехали в город. Что-то постоянно взрывалось, вокруг падали горящие осколки. Охватила апатия. Как остановились возле кирпичного здания, никто не помнит.
Над дверью – вывеска: «Школа». В спортзале ровными рядами разложены маты и матрасы с подушками. На матрасах – белье в пакетах.
Так и просидели всю ночь молча, сбившись в кучу.
Только через несколько дней ребятишки стали отходить от мам. В углу на ковре стояли коробки с игрушками, детские столы и стулья. На столах – фломастеры и альбомы.
На рисунках этих дней только черное и красное пламя. И среди пламени – маленький горящий автобус.
Мечтали узнать, как там свои. Связи не было. А потом призывно мигнул экран. Один, другой… Заголосили. Дрожащими руками стали тыкать в телефоны.
Услышать бы волшебное слово – ЖИВОЙ…
Фантастика какая-то…Федька сидел на тучке и весело болтал ногами. Ему было легко и свободно! От полноты чувств он подпрыгнул и сделал сальто. Смутился, присел на место.
Далеко за горизонтом небо обнималось с землей. Отсюда, свысока, все казалось маленьким и незначительным! Федьке хотелось улететь далеко-далеко, ночто-то удерживало его на месте. Какая-то смутная тревога.
Внизу то ли стоял, то ли висел человек, крепко примотанный к дереву скотчем:ноги подкосились, руки упали вдоль туловища.
По серой дороге двигались игрушечные танки с белой буквой «Z» на боку. Между ними – машина с красным крестом.
Танки остановились, из машины выскочили люди в белом, подбежали к дереву, помахали руками. Потом принесли носилки.
– Не хочу!!! – Федька вцепился в тучку, но душа уже стремительно неслась вниз – в холод и боль. Он оказался на носилках, замотал головой, пытался встать, что-то сказать, но тело не слушалось.
Сначала Федька куда-то плыл, потом его резали, кромсали, штопали. Несколько раз онулетал в спасительную темноту, но его возвращали и заставляли дышать. Наконец, спеленали и оставили. Он согрелся и уснул…
Проснулся Федька из-за солнца. Правый глаз щекотал теплый луч. Левый не открывался.
Он хотел сесть, но острая боль заставила притихнуть. Отлежавшись, попробовал оглядеться. Вокруг стояли больничные кровати, на них лежали коконы в камуфляже. Приглядевшись, понял – это люди, с ног до головы замотанные в бинты. По бинтам расползлись пятна от крови, йода и зеленки.
Вокруг шелестели голоса. Прислушался. Какая-то русско-украинская речь.
«Как до Майдана», – мелькнула мысль.
– Мужик, слышь, мужик, – хриплым шепотом позвали справа, – посмотри, у меня ноги есть? Посмотри, а…
Приподнялся, вглядываясь в очертание ног под тонким солдатским одеялом.
– Вроде есть.
– А вы что, Геннадий Александрович, ног не чувствуете? – В палату стремительно вошел врач.
– Да не пойму я… Болит все, мочи нет!
– А вы потерпите, потерпите. Это хорошо, что болит. Было бы хуже, если б не чувствовали ничего.
Врач наклонился к Федьке,
– Ну, вы и поспать, Федор Алексеевич! Вторые уж сутки пошли.
– А где я? – решился спросить.
– В госпитале, в Донецке. Наша машина рейды делает. Раненых, больных собирает. Повезло вам с Геннадием Александровичем. Машина могла и по другой дороге поехать… Да вы вообще счастливчик: вся кожа в клочья разодрана, живого места нет, а кости и внутренности целы! Прямо фантастика какая-то…
– А глаз? – Федька дотронулся до бинтов. – Не видит совсем.
– Так на нем же повязка. Завтра снимем, посмотрим!
– А вы откуда знаете, как зовут меня?
– Да паспорт твой в кармане лежал, откуда ж еще? – усмехнулся доктор.
– А телефон, телефон мой цел? – забеспокоился Федька.
– Ну, это ты у сестры-хозяйки спросишь, когда ходить сможешь…
До вечера лежал тихо, хоть в душе черти плясали: где он, что с ним будет?! Самый главный, самый тревожный вопрос пока отодвигал.
– Эй, мужик, ты как? – снова захрипел Генка справа. – Ты встать можешь? Погляди, а… Ноги у меня есть?
– Тебе же сказали: раз болят, значит, есть.
– Да он, поди, успокаивает.
– Да ты нежная девица, что ли? Успокаивать тебя.
– Не, я строитель. Сюда по комсомольской путевке приехал. Пятьдесят лет уж как… Весь город отстроил. И по области много. Здесь все дома и улицы знаю. А если ноги ампутировали, как буду строить? Надо же восстанавливать все. Молодым некогда, воюют. А детишкам в подвалах жить?
Откинулся на подушку, стал рассказывать:
– Мы на крыше сидим втроем, Колька еще, Игореха. Привязываться нельзя, какая там техника безопасности. В любую минуту может осколками накрыть.
Привыкли уже, обстрел – не обстрел… Людям после бомбежек жить где-то надо. Вот меня и изрешетило. Хорошо, ребята в слуховое окно затащить успели.
– А я семью ищу. – Федька попытался проглотить ком. – Увезли их. Эвакуация… Живы ли, не знаю.
– Ты с той стороны, что ли? Да ты скажи мне, что вам, поганцам, не хватало? – заскрипел зубами старик. – Вылечат тебя, а ты – за автомат? …
– Да раньше воевать не хотел, а теперь пойду. Биться буду, пока семью не отобью. А потом к тебе приду, строить. Примешь в свою артель?
– Воевать-то с какой стороны будешь?
– Да понятно же. Одни меня ни за что убивали. Не спрашивали, русский я, украинец. Другие лечат и тоже не спрашивают. За тех пойду, кто спас…
Потянулись дни, наполненные тревогой. Сначала Федька стал «сидячим», а потомпопробовал передвигаться «по стеночке».
Телефон, лежащий безмолвно, вдруг замигал, затрясся и бочком поехал по тумбочке. Федька замычал, захрипел и нажал, наконец, на вызов.
– Федя, это ты? Федя, Федька! Ты живой?! Ты где?! – Экран рыдал голосом жены, и вдруг… совсем тихо: – Папа, ты живой? Мы в Донецке, в школе. Нас эвакуировали…
– И я в Донецке…
Елена Адинцова, Виктория Семибратская
МОСТ
«Зы-зы-зы», – тонкий звенящий писк комара оказался последней каплей в переполненной чаше человеческого терпения. Матвей провел рукой по длинным спутанным волосам, поскреб колючий, давно небритый подбородок и отодвинул чашку с недопитым кофе. Август, год трех двоек оказался жарким во всех смыслах.
Заканчивалось девятое военное лето. Того, что пришлось пережить за это время ему, Матвею, представителю одной из самых мирных профессий, хватило бы не на один объемный роман. Вначале предательство сбежавшего президента, потом – вчерашних друзей, готовых бездумно стрелять в своих только потому, что те говорят на русском языке. Череда разочарований и потерь.
Кажется, прошел целый век с того момента, когда его город спокойно трудился: варил сталь, учил детей, добывал уголь. В театрах рождались новые спектакли, в лабораториях – научные открытия. В один миг все рухнуло. Приветливый мир безграничных возможностей одномоментно схлопнулся до блокадной коробки с закрытыми продуктовыми магазинами, безденежьем, отсутствием связи, банковской системы. И все это под грохот нескончаемых обстрелов.
Эта война постепенно отнимала у города все, что было дорого, одно за другим. Истончались и рвались родственные связи, по живому кромсали предприятия, ставя перед сотрудниками трудный выбор: уехать или остаться. Жители лишились права на спокойный сон, на качественную еду, на воду и даже воздух. Разбитая в феврале фильтровальная станция и подрыв аммиакопровода этим летом поставили город на грань выживания.