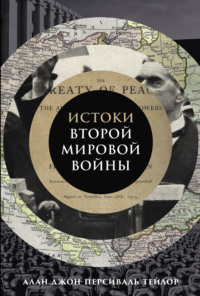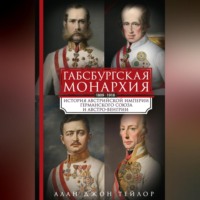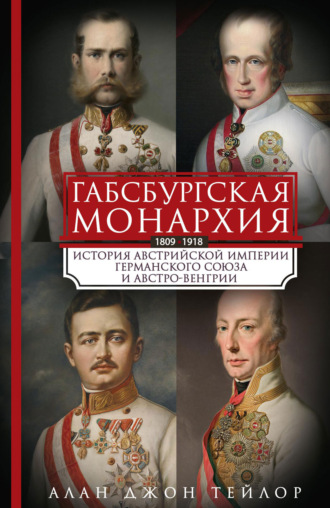
Полная версия
Габсбургская монархия. История Австрийской империи, Германского союза и Австро-Венгрии. 1809—1918
Не только в Хорватии, но и во всей империи революционная ситуация XIX в. вторглась в народную политику, т. е. политику народных «масс». Демократические притязания не являлись чем-то уникальным для Габсбургской монархии; что можно назвать уникальным, так это представление этих требований в национальной форме. Традиционные, или, как их стали называть, «исторические», нации были сословными нациями: венгерская шляхта, немецкие торговцы. Ни те ни другие не ассимилировали народности, от которых венгры получали свою ренту, а немцы – свою прибыль; не существовало австрийской амальгамы, и в результате каждое расширение политического общества увеличивало национальную запутанность империи. Крестьянские массы заявили о своем существовании, что стало важнейшим фактом как в национальной, так и в социальной истории. Такое обобщение упрощает и искажает процесс. В первой фазе, достигшей своего апогея в 1848 г., крестьянские массы почти не шевелились; самое большее, они пустили новые ростки интеллектуальной жизни. Нации, вновь появившиеся на исторической сцене в 1848 г., являлись творениями писателей и существовали еще только в воображении; это были нации, в которых писателей насчитывалось больше, чем читателей. Эти писатели явились результатом аграрной системы, созданной Марией Терезией и Иосифом II: они были сыновьями зажиточных крестьян, австрийской версией сословия, породившего якобинцев во Франции. Якобинцы завершили французское национальное единство, а в Центральной Европе интеллектуалы нарушили целостность империи. Они не относились ни к крупными землевладельцам, ни к торговцам, поэтому не могли стать ни «австрийскими», ни немецкими. Среднее сословие, мелкопоместное дворянство, существовало только в Венгрии; и в Венгрии интеллектуалы, даже словацкие или румынские по происхождению, могли стать «мадьярами», как шляхта. Интеллектуалам повсюду пришлось создать свою собственную национальность, «спящую» национальность своего отца-крестьянина.
Ранние национальные движения создавались и возглавлялись писателями, главным образом поэтами и историками, и их политические убеждения были литературными, а не реалистичными. Национальные лидеры говорили так, как будто их поддерживал сознательный, организованный народ; но они знали, что нация все еще существовала только в их книгах. Один из чешских зачинателей заметил на встрече со своими собратьями-писателями в Праге: «Если бы сейчас на нас обрушился потолок, то это был бы конец национального возрождения». Существуя в замкнутом воображаемом мире, эти первые лидеры снова сражались в исторических битвах, разыгранных столетие назад. Они не знали, когда идти на компромисс, а когда сопротивляться, и в первую очередь они не понимали, что использовать для сопротивления. Они не понимали, что политика есть конфликт сил; они полагали, что это конфликт аргументов. Они привлекали права, а не сторонников. Якобинцы использовали права человека, дабы вдохновлять революционные армии; в Габсбургской монархии национальные лидеры считали, что одних прав достаточно, а накопление прав невозможно. Они трудились над законностью своих притязаний так же усердно, как Карл VI добивался европейского подтверждения Прагматической санкции. Каждая нация претендовала на то, чтобы быть наследницей одного из древних королевств, на руинах которого была построена Габсбургская монархия; и те нации, которые не могли обрести своего государства, претендовали, по крайней мере, на провинцию. Немецкие националисты посягали на наследство Священной Римской империи; венгры объявили «все земли Святого Стефана» мадьярским национальным государством; хорваты требовали «Триединого королевства», которым когда-то правил хорватский король. Исторические и национальные притязания перемешались – это был классический трюк австрийской политики XIX в. Большинство в каждой провинции настаивало на том, чтобы историческая единица стала национальной единицей; меньшинство требовало перекройки провинции по национальному признаку. Таким образом, немецкое большинство в Штирии утверждалось против провинциального единства словенцев, которое чешское большинство утверждало против немцев в Богемии.
Национальные лидеры сражались интеллектуальным оружием и за интеллектуальное вознаграждение. Они основывали национальные академии и требовали национальных университетов. Немцы стремились сохранить свою монополию государственных служащих, остальные – проникнуть в нее. Национальная борьба являлась борьбой за место в бюрократии. Призрачное присутствие масс за кулисами играло роль подкрепления, появление которого не ожидалось. Во второй половине XIX в. массы уже не желали принимать на себя эту скромную роль. После 1848 г. города начали расти все более возрастающими темпами. Отмена барщины во время революции разорвала последнюю юридическую связь, которая прикрепляла крестьянина к земле; и, что еще более важно, традиционный образ жизни, который связывал крестьян еще крепче, чем принудительный труд, был разъеден неумолимой кислотой революционных настроений, распространившихся из Франции. Сельская жизнь не выдерживала воздействия рационализма. Крестьянский поток хлынул в города и затопил немецкие «острова»; города в конце концов приняли национальность сельской местности. Более того, рост городов являлся одновременно и причиной, и следствием индустриализма; и возникшие из-за этого классовые конфликты снова приняли национальную форму. Старые утвердившиеся капиталисты и квалифицированные ремесленники были немцами; новые, исполненные надежд капиталисты и неквалифицированные рабочие – чехами или словенцами. Таким образом, вторая фаза национальных движений, хотя все еще городская, имела более широкий размах: произошли массовые вспышки недовольства, которые интеллектуальные лидеры уже не могли усмирить или контролировать, и националисты стали бороться за богатство и власть, а не за исключительно теоретический принцип.
Наконец, в XX в. последовала третья фаза, которая не успела завершиться, когда Габсбургская монархия окончательно рухнула. Национализм – это интеллектуальная концепция, невозможная без наличия грамотности. Человек, который не умеет читать и писать, говорит на «диалекте», который становится «национальным языком» только на печат ной бумаге. Национальное движение возникло из крестьян; оно не могло охватить крестьян, пока они оставались неграмотными, способными лишь назвать себя «здешним человеком». С ростом городов национализм возвращается к своему источнику. Массовая грамотность, продукт города и промышленной системы, распространилась на деревню и породила крестьянский национализм. Этот национализм также отражал классовые конфликты и амбиции: он ненавидел большие поместья, но не любил и городскую жизнь, и даже городской национализм с его более богатым интеллектуальным налетом. Профессоров оттолкнули в сторону, а последними национальными лидерами Габсбургской монархии стали священники, враги французских революционных идей, из которых возникли национальные движения.
Такой обширный характер национального развития скрывает значительные различия во времени и пространстве. Габсбургская монархия распростиралась по всей Европе от Швейцарии до Турции на протяжении столетий. Наиболее глубокое разделение существовало, без сомнения, между господствующими нациями и угнетенными народами: венграми (мадьярами), германцами, поляками и итальянцами, с одной стороны, и славянскими народами (отличными от поляков) и румынами – с другой. Но и господствующие нации враждовали между собой, хотя им угрожала общая опасность: итальянцы боролись за освобождение от немцев, а «мадьяризация» не пощадила немцев в Венгрии. Кроме того, подвластные народы не были сведены к единому характеру общим подчинением. Чехи, с их процветающей интеллектуальной жизнью и расширяющейся капиталистической промышленностью, стали нацией среднего класса; хорваты, с их более малочисленным дворянством и нитью исторической преемственности, сохранили аристократический облик; и те и другие отличались от «крестьянской нации». Опять же, нации, в которых сохранялось протестантство – чехи и мадьяры, – обладали большей независимостью духа, чем римско-католические народы, хорваты или венгры, на которых Габсбурги все еще могли воздействовать религиозной мерой наказания. Как протестантские, так и римско-католические нации чувствовали себя в монархии Габсбургов более комфортно, чем православные, сербы и румыны, для которых империя была в лучшем случае чужеродным покровительством.
Династия по-прежнему затмевала национальные амбиции и споры; и враждующие нации стремились захватить династию, а не свергнуть ее. Только итальянцы в начале XIX в. и сербы в начале XX в. просились выйти из империи Габсбургов; и империя была расшатана до основания одними и распалась на куски из-за других. Всеми остальными Габсбурги могли маневрировать. В первой половине XIX в. династии угрожали две великие исторические нации – немцы и мадьяры, и, чтобы защитить себя, она возродила политику Иосифа II и призвала на помощь угнетенные народы. Это было главным событием 1848 г., поворотным моментом в судьбе Габсбургов. Династия не могла уйти от собственного исторического наследия: она не могла отказаться от взглядов Контрреформации или объединиться с крестьянами против их господ. Династическая власть, мадьярские и немецкие привилегии – все это по-своему отрицало демократию; и Габсбурги не осмеливались использовать демократию против мадьяр и немцев, опасаясь, что это может обернуться против них самих. Перед лицом угрозы со стороны угнетаемых народов старые бойцы уладили свои разногласия; таков был компромисс 1867 г. Династии не удалось уйти от этого компромисса; и династия, германцы и мадьяры оказались вовлечены в общую погибель.
Глава 3
Старый абсолютизм: Австрия Меттерниха, 1809–1835 гг
В 1804 г. земли Дома Габсбургов наконец получили название: они стали Австрийской империей. В 1805 г. мечта Габсбургов о всемирной монархии издала последний писк, и Франц нацелился защитить Европу от Наполеона. Аустерлиц разрушил мечту, уничтожил реликвии Священной Римской империи и оставил Франца в лучшем случае императором второго сорта. Австрия, как бы там ни было, вышла из всего независимой страной и устремилась к самостоятельному курсу. Результатом стала война 1809 г., попытка найти новую движущую силу для освобождения Германии. Эта война едва не уничтожила Австрийскую империю. Наполеон призвал к венгерскому восстанию и даже разработал планы сепаратного Богемского королевства. Австрию спасла не сила ее армий и не верность ее народов, а ревнивость ее имперских соседей: российский царь Александр I и Наполеон не смогли договориться об условиях раздела и довольствовались пограничными приобретениями – Александр присвоил себе Восточную Галицию, а Наполеон превратил южнославянские земли во французскую провинцию Иллирию. События 1809 г. определили характер австрийской политики на сорок лет, а то и на целое столетие существования империи. Австрия стала «державой-необходимостью» Европы[6]. Выражаясь более четко, можно сказать, что великие державы согласились с тем, что фрагменты, уцелевшие от стремления Габсбургов к всемирной монархии, были более безобидными в руках Габсбурга, чем в руках какого-то нового претендента на мировую империю. Характер Австрийской империи четко проявился в противопоставлении Австрии и Пруссии. После поражения Наполеона обе страны вернулись в ряды великих держав; но Пруссия достигла этого посредством жестких реформ, а Австрия – посредством гибкой дипломатии и искусных договоров.
Такую Австрию олицетворял Меттерних, ставший министром иностранных дел в 1809 г. и представлявший Австрию в Европе в течение тридцати девяти лет. Он был выходцем из Рейнской области, западноевропейским по воспитанию и мировоззрению, запоздалым рационалистом эпохи Просвещения, любившим строить абстрактные политические системы и убежденным в своей непогрешимости. Дипломатическое искусство Меттерниха провело Австрию через опасные годы между 1809-м и 1813-м и сделало ее центром европейского порядка, последовавшего за падением Наполеона, – Венский конгресс стал символом его достижений. Поскольку Австрия являлась необходимостью Европы, то и Европа являлась необходимостью Австрии. Австрия не могла проводить политику изоляции или даже независимости; она всегда должна была оправдывать свое существование, выполнять миссию – выстраивать систему альянсов. Внешняя политика Меттерниха выросла из горького опыта, с которым он вступил в должность: он опасался действий, всегда стремился откладывать решения и заботился только о спокойствии. Европа после Наполеона также желала покоя; и, таким образом, Меттерних находился в гармонии с европейскими настроениями. Ему не повезло в том, что он пережил уставшее от войны поколение и уцелел в Европе, которая требовала более позитивных идей.
Меттерних, как и другие европейские государственные деятели 1815 г., полагал, что любая новая угроза европейскому порядку снова придет из Франции, и его внешняя политика была направлена на изгнание призрака Наполеона. Империя Наполеона опиралась на господство французов в Италии и Западной Германии; теперь они сгруппировались под австрийской защитой. Франц не восстановил свой титул императора Священной Римской империи, и его отречение позже приобрело символическое значение. В 1815 г. изменение казалось скорее номинальным, чем реальным. Старый титул был фикцией, которую считали таковой даже Габсбурги. Германская конфедерация, созданная в 1815 г., служила более тесным союзом, чем распавшаяся империя, и Австрия, как председательствующая держава, по-прежнему имела принципиальное право голоса в германских делах. Австрия не отказалась от главенства Германии в 1815 г. Скорее наоборот: она доказала свой германский характер, хотя и воспринимала Пруссию как вторую великую державу в Германии; это партнерство состояло в том, что Пруссия выполняла работу, а Австрия пользовалась почестями. Австрия и Пруссия были слишком потрясены Наполеоновскими войнами, чтобы вступать в соперничество; общий страх перед Наполеоном свел их вместе, а общий страх перед Францией и, более того, перед французскими идеями удерживал их вместе целое поколение после Лейпцига и Ватерлоо. Теоретически Австрия и Пруссия объединились для защиты Германии; на практике Австрия оставила главную задачу Пруссии и слишком поздно обнаружила наказание за свою хитрость.
Особой австрийской миссией, chef d’oeuvre (шедевром) дипломатии Меттерниха, была безопасность Италии. Эта задача возникла случайно – благодаря обычному ходу дипломатии XVIII в., посредством которого в 1797 г. Австрия приобрела Венецию в качестве компенсации за австрийские Нидерланды. Венеция и Ломбардия (австрийское приобретение после Войны за испанское наследство) были потеряны для Наполеона и стали королевством Италии; в 1814 г. они вернулись в империю Габсбургов и получили отдельный статус как королевство Ломбардии-Венеции, теперь уже не в качестве отдаленных провинций, а неотъемлемые от существования Австрии. Внешняя политика Австрии сосредоточилась на итальянском вопросе более сорока лет – даже в 1866 г. Италия проиграла Австрии войну против Пруссии. «Итальянской» миссии надлежало стать оправданием Австрии в глазах Европы. Даже связанные с этим неприятности имели свою пользу: они привлекали внимание европейцев к Австрии, как странный недуг привлекает внимание к человеку, в остальном ничем не примечательному. Итальянский вопрос смягчил затруднения Австрии ни в одном дипломатическом кризисе: Англия хотела оградить Италию от Франции, Россия стремилась оградить ее от Англии, поэтому в других вопросах обе страны обращались с Австрией более обходительно. Имелись и более глубокие мотивы упорства австрийцев в Италии. Королевство Ломбардия-Венеция служило последней связью с идеей всемирной империи. Это сделало Австрийскую империю средиземноморской державой и частью Западной Европы и спасло Габсбургов от превращения в чисто немецких князей.
Прежде всего «австрийская идея» была поставлена на карту Италии. Габсбургская империя основывалась на традициях, «династических правах» и международных договорах; принцип «легитимизма» был для нее неотъемлемым. Национальный принцип, заложенный Наполеоном в Италии, отрицал легитимизм и бросал вызов основам габсбургского существования. С другими противниками Габсбурги могли пойти на компромисс; они могли заключить сделку даже с германским национализмом, как в течение полувека подразумевали проекты Великой Германии; только итальянский национализм оставался непримирим. Итальянские радикалы не искали уступок от Габсбургов, не стремились «захватить» династию или обеспечить особое положение в империи; они даже не стремились к историческому почитанию, ссылаясь на «железную корону Ломбардии»[7]. Итальянское движение, немногочисленное и лишенное материальной силы, олицетворяло идею, полностью подрывающую монархию Габсбургов, и поэтому Меттерних и его система находились в постоянной борьбе с ней. Большая часть австрийской армии сосредоточилась в Северной Италии. Италия являлась главной темой дипломатии Меттерниха, и участь остальной империи определялись итальянскими событиями, как в 1848, так и в 1859 г. Победы Радецкого привели к поражению революций 1848 г. Маджента и Сольферино свергли абсолютизм в 1859 г. Как и конфликт с Сербией столетие спустя, столкновение между Габсбургской империей и итальянским национализмом было знаковым столкновением двух миров.
Внешняя политика Меттерниха основывалась на предположении, что западные дела первостепенны: французская агрессия, по его мнению, служила главной угрозой Венским договоренностям, а безопасность Германии и Италии – его главной проблемой. Предположение оказалось ошибочным: Франция миновала зенит своего подъема и никогда больше не стремилась к господству над Европой. Угроза существованию Австрии, окончательно ее уничтожившая, исходила из России, а не из Франции, и наиболее острой австрийской проблемой являлся так называемый восточный вопрос. В XVIII в. восточный вопрос представлял собой всего лишь соперничество между Австрией и Россией за приобретение турецкой территории. Теперь решение более не представлялось возможным. Последнее русское приобретение 1812 г. вывело Россию на берег Дуная, и новый выигрыш перенес ее через него. Но до появления железных дорог Дунай служил единственной экономической связью Австрии с внешним миром и ее самым важным звеном даже после ее появления, и Австрия не могла передать контроль над устьем Дунайского прохода России, продолжая оставаться независимой державой. Дальнейший раздел был исключен; этот факт, лишь постепенно осознанный австрийскими дипломатами и никогда не осознанный русскими, преобладал в восточном вопросе между 1812 и 1814 гг. Турция тоже стала необходимостью Европы; Австрия и Турция, обе зависевшие от легитимизма, а не от собственной силы, оказались связаны друг с другом. Генц, политический писатель, снабжавший Меттерниха идеями, писал в 1815 г.: «Австрийцы могут пережить конец турецкой монархии, но лишь на короткое время».
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Сноски
1
Чешско-венгерского короля Людовика. (Здесь и далее примеч. пер., если не указано иного.)
2
Прагматическая санкция (лат. Sanctio Pragmatica, нем. Pragmatische Sanktion) – закон о престолонаследии, принятый императором Священной Римской империи Карлом VI 19 апреля 1713 г.
3
Это не относится к Северной Италии, где вся земля принадлежала землевладельцам, а так называемые крестьяне были, по сути, фермерами-арендаторами, как в современной Англии. Это, без сомнения, основная причина промышленного развития Северной Италии. (Примеч. авт.)
4
Конвент – собрание, в католической церкви – наименование общины монахов и каноников и именование монастырей в некоторых монашеских орденах.
5
Вандейское восстание – гражданская война между сторонниками и противниками революционного движения на западе Франции, преимущественно в Вандее, длившаяся с 1793 по 1796 г.
6
То есть стабилизатором национальностей и наций, для которого не существовало никакой возможной замены.
7
Это одна из самых древних (если не древнейшая) корон в Европе. Считалось, что в корону вделан обруч, который выковали из гвоздя, которым Господь был прибит к кресту. Железная корона стала официальной регалией Итальянского королевства в составе Священной Римской империи. Ею короновались почти все императоры. В 1805 г. железной короной короновался Наполеон I в качестве короля Италии.