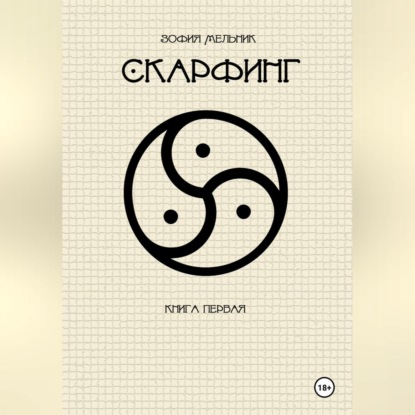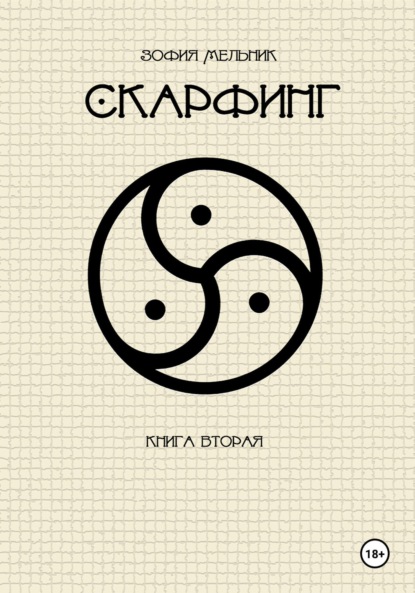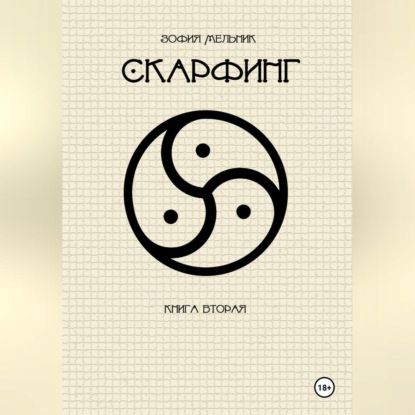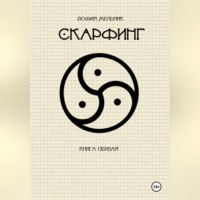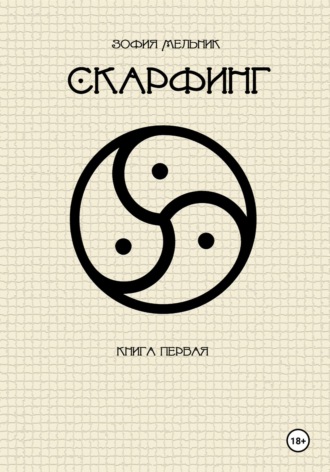
Полная версия
Скарфинг. Книга первая

Зофия Мельник
Скарфинг. Книга первая
Полезно записывать сны.
Мирче Элиаде
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Науму снится, что на слушанье по их делу верховная судья явилась в чем мать родила. Из одежды на барышне только золоченая цепь с судейским знаком. И этот знак в виде гербового щита с василиском лежит между ее полных тяжелых грудей. Судья уже не молода, но еще хороша собой. У нее миловидное холеное лицо, накрашенные свеклой полные губы, витые кольцами каштановые волосы и белые, как сахар округлые плечи.
– Я, верховная судья Великой Тартарии, рассмотрев все обстоятельства дела, – голос судьи раскатистым эхом отдается от купольного свода палаты. – Приговариваю братьев Чижовых к пожизненному рабству. После оглашения приговора бить обоих кнутом…
Наум оглядывается по сторонам и видит, что судья не одна явилась на слушанье голышом. И секретарь, и писец, и палач, и жандармы, словом, все, кто присутствует в судебной палате – не потрудились прикрыть свою наготу, и сами этого словно не замечают. Разве что у палача на ногах сандалии в римском стиле на шнуровке. И только Наум и Гелий одеты в залатанные и испачканные маслом заводские комбинезоны. Братья Чижовы слушают приговор, стоя на коленях на истертом мозаичном полу. Их руки и ноги закованы в кандальные браслеты.
– Ох, – вздыхает Гелий, услыхав про порку кнутом, и зябко поводит плечами.
Невысокий и худенький, с копной русых, выгоревших на солнце волос, Гелий кажется мальчишкой рядом с широкоплечим и угрюмым Наумом.
– Дадут десять кнутов, – шепчет Наум. – Ничего, братишка, ничего…
– Тяжко? – спрашивает Гелий, глядя на старшего брата с тревогой.
– Ну-у-у, – тянет Наум. – Ты кляп покрепче закуси. Будет легче терпеть.
Прежде Наума били кнутом лишь раз, когда поймали пьяным на Прямском взвозе. Кнут это тебе ни ремень и ни розги. Даже удар в полсилы рассекает кожу, и больно так, что хочется кричать в голос. Сам Наум порки не страшится, ему горько думать, что кнута отведает младший брат.
– Ты погляди на нее, такая всю шкуру спустит, – шепчет Гелий.
Братья Чижовы молча смотрят на палача. Дюжая девица с короткой шеей и широкими, как у самца плечами прохаживается возле стойки и жует смолку. На стойке Наум видит плети из сыромятной кожи и конского волоса. Есть там арапник и кнут из коровьей кожи, который еще называют арабской плетью, и тонкий и длинный шамберьер с гибкой рукоятью. На широком и смуглом лице палача застыло скучливое выражение. У девицы раскосые карие глаза и иссиня-черные волосы, собранные в конский хвост.
– Наума Чижова, как зачинщика отправить на Ферму, – продолжает зачитывать приговор верховная судья. – Гелия отдать в услужение. Согласно традиции, государственная лотерея…
– А вот это худо, братишка, – говорит Наум, потому что это и впрямь, куда хуже, чем порка кнутом.
– Нас разлучат, – растерянно шепчет Гелий. – Ох, беда!
Секретарь – невзрачная испуганная барышня с острыми ключицами направляется к подиуму. На подиуме установлен отлитый из стекла лотерейный барабан. Внутри барабана лежат, матово поблескивая, шары из слоновой кости. Всего две сотни шаров. На каждом вырезана фамилия старинного тартарского рода. Барышня робко оглядывается на судью, потом берется за ручку и принимается раскручивать лотерейный барабан. Когда ручка уходит на самый верх, секретарю приходится подниматься на цыпочки.
– Гелька, ты не дрейфь, – шепчет Наум. – Я все одно сбегу.
– Угу. А как оно на Ферме?
– А леший его знает. Я столько небылиц слышал… Братишка, ты меня прости, что так все обернулось.
– Ты это брось! Я не маленький. Знал, на что шел.
– Эх, если бы не Тайная канцелярия, – вздыхает Наум. – Ума не приложу, откуда они узнали!
– Помянешь, черта… Ты погляди, вон там, на последнем ряду!
Взгляд Наума скользит по пустым, расположенным амфитеатром, трибунам. На самом верху, возле прохода он видит высокую девицу в черном латексном комбинезоне и маске. Агент Тайной канцелярии сидит неподвижно, откинувшись на спинку скамьи. Глаза агента спрятаны за стеклянными линзами, а прорезь для рта закрывает проволочная сетка. Это девица похожа на манекен, на гигантского муравья, на коллективную галлюцинацию.
– Это ничего, что у нас сперва не вышло, – шепчет Гелий, с опаской поглядывая на агента. – Попробуем еще раз.
Лотерейный барабан вертится все быстрее, внутри со стуком перекатываются и подпрыгивают костяные шары. Лицо у секретаря становится розовым от усердия. Наконец, один из шаров вылетает через круглую прорезь и скатывается вниз по изогнутому желобу. Барышня передает его судье.
Верховная судья держит лотерейный шар в воздетой вверх холеной белой руке.
– Муниципальный раб Гелий Чижов переходит в собственность…
Близоруко прищурясь она читает вырезанную на костяном шаре глаголицу,
– Семейству… семейству Брошель-Вышеславцевых.
– Брошель-Вышеславцевы, – повторяет Наум, старясь крепко-накрепко запомнить эту двойную аристократическую фамилию, – Брошель-Вышеславцевы, Брошель-Вышеславцевы…
Жандармы поднимают его на ноги и ведут к позорному столбу. Наум оглядывается.
– Я тебя выручу, Гелька! Я вернусь, слышишь! – обещает он младшему брату.
Палач уже натянула на руки перчатки и сняла со стойки кнут. Девица недобро улыбается, глядя на Наума, а потом делает быстрое и какое-то округлое движение рукой. По сплетенному из сыромятных полос кнуту пробегает волна, и его кончик щелкает, будто выстрел.
Жандармы подводят Наума к установленному на массивном крестообразном основании позорному столбу. Сверху на столбе закреплены деревянные колодки с прорезями для шеи и запястий, снабженные шарниром и запором. Наум стаскивает лямки, расстегивает пуговицы и стряхивает с ног комбинезон. Оставшись в исподнем, он подходит к столбу. Почувствовав, чей-то пристальный и словно бы липкий взгляд, Наум поднимает голову и видит, как верховная судья беззастенчиво разглядывает его мускулистое, плотно сбитое тело. Лицо судьи кажется отрешенным, но её темные, подведенные углем глаза, азартно блестят.
Наум невесело усмехается. Он пристраивает запястья и шею в прорези в колодке и принимается разглядывать державного василиска, выложенного черной смальтой на полу судебной палаты.
Одна из жандармов захлопывает и запирает колодку. Шарнир пронзительно скрипит, а запор лязгает так громко, что Наум просыпается…
ГЛАВА ВТОРАЯ
Над сценой, изображая луну, висит на бечевке круглая газоразрядная колба. В золоченой клетке, держась обеими руками за прутья, стоит девица в блузке из белого шелка и розовых шароварах. Её лицо скрыто чадрой.
– Кто ты такая? И зачем тебя держат в клетке? – спрашивает другая актриса в полосатом халате и туфлях с загнутыми мысами.
Эта актриса играет принца Орхана, проникшего в гарем. Чтобы она хоть немного походила на самца, гример наклеил актрисе небольшую черную бородку.
– Мое имя Михрима, – отвечает девица в розовых шароварах. – И я вовсе не пленница. Если тебе дорога жизнь не пытайся открыть мою клетку. Садись и слушай.
Актриса с фальшивой бородой садится на подмостки возле клетки, скрестив ноги.
– Сейчас ты видишь меня одетой и в чадре. Это для того, чтобы тебя не ослепил блеск моей красоты. Если ты готов, я позволю тебе осмотреть самые опасные и соблазнительные части моего тела.
– Я готов, о Михрима.
Михрима снимает блузку и прижимается своей тяжелой белой грудью к золоченым прутьям решетки.
– Смотри же, это – луны, это плоды граната…
– Вся эта пьеса какой-то нелепый напыщенный вздор, – ворчит Варвара Альбрехт.
– Вовсе нет, – обижается София Павловна. – На самом деле это страшно смешно! А сколько здесь пикантных и совершенно непристойных сцен! В финале пьесы Михрима должна задушить героя шелковым шнуром. Но Орхан топит её в бассейне, наполненном ртутью, и сбегает из гарема с придворной прачкой…
– А по мне одно кривляние, – Варвара зевает и прикрывает ладонью рот. – Вот эта актриса, которая играет принца, она же совсем не похожа на самца. Все видят, что это женщина, которой просто наклеили бороду! Я не могу взять в толк, почему самцы не могут играть в театре? Им же разрешили сидеть на галерке?
София Павловна ненароком оглядывается. Зрительный зал освещает лишь льющийся со сцены свет фальшивой луны.
В партере занята от силы половина мест. Зато на галерки яблоку негде упасть. София Павловна видит, как бледными пятнами светятся в полутьме лица самцов – простолюдинов, поденщиков, дворовой челяди и рабочих с механического завода, пришедших на вечернее представление.
– А как по мне твои груди похожи на слепых щенят, нуждающихся в ласке, – говорит Орхан, сидя по-турецки на сцене и покачиваясь взад-вперед.
– Обольщение это хитрость, которую используют слабые, чтобы покорить сильных. Сильные всегда стремятся выплеснуть свою силу в нежность и стать слабыми,– продолжает Михрима, – Теперь взгляни на мои ягодицы. Они также похожи на луну. Они бледные и светящиеся, и подобно луне могут свести мужчину с ума.
Она поворачивается к Орхану спиной и, расстегнув кушак, спускает шаровары.
София Павловна хочет сказать подруге, что та ничего не понимает в театре. Она наклоняется к Варваре, и тут замечает, что сквозь хвойный запах смолки, которую жует художница, пробивается сладковатая сивушная нотка.
– От тебя разит самогоном, – шепчет София Павловна на ухо Варваре.
– Быть этого не может! – смеется художница.
– Ну, смотри, Варенька! Тебя уже пороли у позорного столба, года не прошло…
– Типун тебе на язык, – Варвара лезет в холщовую сумку и достает украдкой бутылку из толстого стекла.
В бутылке плещется мутный самогон.
– По глотку, чтобы немного взбодрится, – предлагает Варвара Альбрехт и широко улыбается щербатым ртом и вытаскивает из горлышка деревянную пробку.
Про Варвару нельзя сказать, что она красавица. У неё узкое худое лицо, нос с горбинкой и большая щербина между верхних резцов. Желтые, как солома волосы, пострижены совсем коротко и топорщатся на макушке. Это невысокая худощавая девица с узкими бедрами и длинными руками. Пальцы у нее тоже длинные, тонкие и такие гибкие, что, кажется, будто суставов в каждом пальце больше чем следует. Если присмотреться, то на лице Варвары, на ее смуглой от загара шее или руках всегда можно заметить пятнышки не до конца оттертой краски – огненную киноварь, желтую солнечную охру, изумрудную зелень кобальта или цинковые белила. Варвара Альбрехт – художница, она живет на съемной квартире неподалеку от трамвайного парка, на самой окраине Тобола.
– Ты с ума сошла! А ну, спрячь немедленно! – сделав большие глаза, шепчет София Павловна, а сама берет из рук художницы бутылку с самогоном.
– Я помню, раньше ты ни черта не боялась. Чем-чем, а поркой тебя точно было не напугать.
– Я стала осторожнее. Глупо самой нарываться на выволочку.
– Куда вы подевали мою Софи? – вопрошает Варвара, подняв свои большие навыкате глаза к темному своду зрительского зала.
Запах сивушных масел щекочет Софии Павловне ноздри. Она жмурится и, задержав дыхание, делает хороший глоток из горлышка. На лице барышни появляется страдальческая гримаса, будто её вот-вот стошнит. Она осторожно выдыхает.
– Ух, какой крепкий! – София Павловна вытирает выступившие на глазах слезы.
– Возьми-ка, – говорит Варвара и протягивает подруге завернутую в фантик смолку.
Художница тоже отхлебывает самогона из горлышка. Потом прячет бутылку обратно в суму. Откинувшись на спинку кресла, она смотрит на сцену блестящими глазами.
А на сцене, повернувшись к Орхану спиной, Михрима вертит большой белой задницей. Орхан украдкой задирает халат и принимается лихорадочно мастурбировать. У Орхана, вернее у актрисы, которая его играет, вместо настоящего пениса – фаллос, вырезанный из слоновой кости. Фаллос крепится к паху актрисы кожаными ремешками телесного цвета.
– Я расскажу тебе об астральном невольнике, обращенной в рабство задницей женщины. И о горькой тайне её черной бездны, – говорит нараспев Михрима.
Она переступает с ноги на ногу, и её массивные ягодицы, то поднимаются, то опускаются, мерцая в фальшивом лунном свете.
София Павловна разворачивает бумажный фантик и принимается жевать вязкую смолу. Рот наполняется выкусом кедровой хвои, пчелиного воска и прополиса.
– Я её нашла, – говорит Варвара, все так же глядя на сцену.
София Павловна растерянно кивает, потом перестает жевать смолку и немного испуганно смотрит на подругу.
– Нашла?
– Да. У меня есть карта. Я тебе покажу.
– Ты пьяна.
Художница тихо смеется.
– Сестренка, я прожила в Нижнем посаде все лето. Я оделась, как простолюдин, остригла волосы… Ты посмотри на меня. У меня же нет ни сисек, ни задницы! Я написала чертову уйму картин. Я пила самогон с грязными, бородатыми самцами и ходила драться стенка на стенку. Я по неделям не мылась…
– Ужас какой! У меня, наверное, никогда не хватило бы духу…
– У меня появилось много друзей, – говорит, наклонившись к самому уху Софии Павловны, художница.
Её горячий и влажный шепоток пахнет кедровой смолой и самогоном.
– Я писали портреты, рисовала шаржи. Самцы любят, чтобы картинки были яркими и гротескными. Чтобы можно было поржать, сидя у костра… И вот однажды, я им все рассказала… Рассказала, что у меня была падучая.
Заметив непонимающий взгляд Софии Павловны, художница объясняет,
– Ну, мерцающая эпилепсия по-нашему. Самцы называют это падучей. Это, наверное, потому что когда случается приступ, ты падаешь на землю…
– Разве у самцов бывает эпилепсия? – удивляется София Павловна. – У них же слишком примитивно устроено мышление, да и сам мозг самца больше похож на мозг коровы…
– Брось, подруга, – кривится Варвара. – Ты же не дурочка, чтобы в такое верить. Что с тобой стало?
– Я живу под одной крышей с жандармом. Мне, знаешь ли, приходится день за днем изживать из себя крамолу.
– Да уж, твоя сестрица не подарок, – соглашается Варвара. – Знаешь, что меня чрезвычайно удивило – в Нижнем посаде к падучей относятся совсем не так, как здесь.
– А как? – с интересом спрашивает София Павловна.
– С благоговением. С религиозным трепетом. Как-то так… Словом, надо мной никто не смеялся… А я стала жаловаться, как тошно мне жить. Сказала, что с ума схожу от тоски.
– Мы все сходим с ума от этой тоски, – замечает София Павловна.
Варвара Альбрехт криво улыбается и снова показывает подруге щербину между зубов.
– Знаешь, мне удается забыться, только, когда я пишу картины или напиваюсь в хлам.
– А ты счастливая, Варенька.
– Я не стану тебе всего рассказывать, – говорит, подумав немного художница. – Все равно ты мне не поверишь, да и времени жаль…
Стоя в золоченой клетке Михрима оборачивается и видит, как Орхан, задрав халат, бесстыдно мастурбирует. Она испуганно вскрикивает. И в ту же минуту светильник, изображающий луну, мигает несколько раз и гаснет. Сцена погружается в кромешную темноту. Раздается свирепый и жуткий голос другой женщины, не Михримы.
– Горе мужчине, который не выдержал испытание. Пускай остается во тьме и бесчестии пленником своей похоти!
Половинки бархатного занавеса сходятся и скрывают от зрителей темную сцену. Под потолком вспыхивает люстра со множеством светильников и хрустальных подвесок, похожая на застывший сверкающий водопад. Барышни в нарядных сарафанах и вечерних платьях поднимаются с кресел и, переговариваясь в полголоса и обмахиваясь веерами, выходят из зала. Подруги остаются сидеть на своих местах.
– Вот, взгляни, – говорит художница и протягивает Софии Павловне сложенный лист вощеной бумаги.
София разворачивает бумагу и видит карту городской застройки, нарисованную свинцовым карандашом.
– Это – Кремль, – говорит Варвара и тычет в карту длинным пальцем. – Вот Прямский взвоз… Вот Большая Ильинская, а здесь – Спасская…
– Если это Ильинская, то вот он – драматический театр. Значит, мы сейчас здесь… А эта что за метка?
Неподалеку от театра в переулке София Павловна видит нарисованной красной охрой треугольник. Цвет охры такой яркий, что ей кажется, будто треугольник светится на полупрозрачном листе вощеной бумаги.
– Это – то самое место.
– Не может быть, чтобы было так просто, – качает головой София Павловна.
– Здесь недалеко, – шепчет ей на ухо художница. – Сходим и сами посмотрим?
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Покуда подруги смотрели спектакль, в Тоболе уже стемнело. Вдоль улицы стоят тонкие изогнутые столбы фонарей с пузатыми колбами. Неживой белый свет ложится на усыпанную палой листвой мостовую и бежит ручейком по трамвайным рельсам. Уличные фонари не соединены между собой проводами. Вместо этого на каждом столбе установлены U-образные навершия с горизонтально закрепленными реками. На рейках расположены конденсаторы эфирного поля – по форме и размеру схожие куриными яйцами, с запаянной внутри ртутной смесью и медным сердечникам. Нижний загиб U-образного элемента служит для того, чтобы само навершие не превратилось в короткозамкнутый виток в центре эфирного облака. Плотности такого облака достаточно, чтобы зажечь фонарную колбу с газом, которая крепится на единственном проводнике к столбу. Уличные фонари запитываются от ближайшей станции генерации. Возмущение эфирного облака с одной стороны цепи почти мгновенно передается на другой конец посредством продольных колебаний.
Барышни ходко идут вниз по Большой Ильинской, все дальше удаляясь от Кремля.
– Ты была самой настоящей сучкой. Маленькой дрянью, безумной и озлобленной на весь мир, – вспоминает Варвара. – Наверное, дня не проходило, чтобы тебе хорошенько не доставалось.
– Меня драли, как сидорову козу, – смеется София Павловна. – Знаешь, подруга, когда тебя стегают прутом, как-то забываешь, что все вокруг сплошная иллюзия. Мир становится чертовски реальным.
– Ты ведь не сдалась, Софи?
– Не думаю, что я сдалась.
В синем, украшенном вышивкой, сарафане, сложив за спиной руки, София Павловна молча шагает по мостовой. Свет фонаря выхватывает из темноты ее бледное усыпанное веснушками лицо.
Мимо подруг со стеклянным звоном проезжает поздний трамвай.
– Ты видишь кого-нибудь из наших?
– Я стараюсь видеться со всеми, – отвечает София Павловна. – И я замечаю, как понемногу мы все теряем надежду.
– Нынешней ночью всё изменится, – обещает художница. – Теперь мы знаем, где эта чертова дверь.
Она останавливается на углу и, не таясь, потому что час уже поздний и на улице ни души, достает из холщовой сумы бутылку и прикладывается к горлышку. Неподалеку, посреди маленькой треугольной площади стоит позорный столб с колодками, и София Павловна, глядя на него, зябко поводит плечами. Пьянство в Великой Тартарии вне закона. За пьянство публично порют плетьми. Но Варваре Альбрехт как будто нет до этого дела. А ведь в начале прошлого лета она стояла возле такого вот позорного столба, и плеть впивалась в ее худенькие плечи и гуляла по ее узкой белой спине.
Художница вытирает ладонью губы и протягивает бутылку Софии Павловне.
– Ты что-то совсем раскисла, сестренка.
София Павловна воровато оглядывается по сторонам. Барышни остановились неподалеку от здания генерации атмосферного электричества, притулившегося промеж особняков. Похожие на огромные луковицы купола темнеют в усыпанном звездами небе. Низкий, едва слышный гул плывет по улице, а в узких, как бойницы окошках станции ярко горит свет. Вдоль по Большой Ильинской от здания к зданию бежит, опираясь на чугунные опоры, магистраль пневматической почты.
София Павловна делает изрядный глоток самогона и возвращает бутылку художнице.
– Варенька, у тебя же выставка! – спохватывается София Павловна. – А я тебя даже не поздравила, не расспросила… Ты меня прости!
– Да мы как-то про другое говорили, – немного смущенно отвечает Варвара.
– Это на Кузнечной заставе, верно? – спрашивает София Павловна. – Я непременно приду. Пускай, я и не очень понимаю в живописи… Я так за тебя рада, Варя, если бы ты только знала!
– Да ну её, эту выставку, – хмурится Варвара. – Если бы не были нужны деньги до зарезу… Я сегодня закончила одну картину. Долго провозилась, стоит сказать… Знаешь, я подумала, это как-то несправедливо.
– Ты о чем?
– Ведь кроме нас есть и другие. Вот я и захотела, оставить им подсказку. След из хлебных кошек.
– Дельная мысль, – соглашается София Павловна.
– А как это сделать?
– Я уже все сделала, подруга. Я спрятала карту на самом виду, – смеется Варвара и София Павловна понимает, что художница пьянее, чем кажется. – Но не все так просто, им все же придется поломать голову… Есть такой старый фокус с зеркалами…
София Павловна останавливается под фонарем и, прищурив глаза, всматривается в карту.
– Я не могу понять, где этот переулок…
Порыв ветра едва не вырывает у нее из рук лист вощеной бумаги. По мостовой летит рыжая опаль. Ветер раскачивает, стоящие вдоль улицы старые клены.
– Мы должны повернуть с Ильинской. Это где-то здесь… Вот только никакого переулка я не вижу.
Варвара, заглядывает подруге через плечо.
– Смотри, на карте обозначена станция генерации. А вот и переулок…
Барышни оборачиваются и смотрят, на стоящее неподалеку, увенчанное куполами здание станции, а потом снова на карту.
– Ничего, не понимаю, – признается, наконец, София Павловна.
Художница отбирает у подруги лист вощеной бумаги и решительно шагает по мостовой, мимо позорного столба с колодками, мимо будки сапожника. Свет в будке не горит, окошки закрыты ставнями, дверь заперта на замок. За будкой в полутьме виднеется деревянная решетка, увитая пожелтелым и пожухлым плющом. Решетка тянется от станции генерации до следующего дома, стоящего на Большой Ильинской.
Дойдя до этого самого дома, Варвара Альбрехт останавливается и задумчиво разглядывает лепные маски грифонов над темными окнами.
– Странно это, – замечает София Павловна. – Будто целый переулок пропал.
Художница с досадой смотрит на подругу, потом её взгляд скользит в сторону…
– Слепая дура, вот кто я такая – смеется Варвара, ее большие навыкате глаза возбужденно блестят.
Она проходит мимо ничего не понимающей Софии Павловны, мимо будки с опущенными ставнями, останавливается возле решетки и принимается срывать с деревянных реек высохший и пожелтелый плющ.
– Его спрятали, – говорит художница. – Спрятали целый переулок. Вот, посмотри сама.
София Павловна подходит ближе.
– Странное дело, я, наверное, сотню раз проходила по этому самому месту…
– Ты помнишь, много лет назад в Тоболе была эпидемию оспы?
– Матушка мне рассказывала. Я тогда была совсем маленькая.
– Говорят, от оспы много людей поумирало. Столица опустела. Улицы, на которых больше никто больше не жил называли карантинными. И проход на такие улицы закрывали. А уже потом на новых картах карантинные улицы перестали рисовать, словно их и не было вовсе.
Варвара идет вдоль решетки, покуда та не упирается в каменную стену здания.
– Подсоби-ка, сестренка! – просит она Софию Павловну.
Вдвоем барышни немного сдвигают в сторону, сколоченную из реек решетку, и бочком пролезают в образовавшийся проход.
В карантинном переулке темно. Сквозь облачную дымку, затянувшую небо, сочится лунный свет и худо-бедно освещает нежилые дома, стоящие по обеим сторонам. Гнутые фонарные столбы похожи на мертвые деревья, промеж булыжников мостовой там и сям торчат пучки пожелтелой травы. Софии Павловне кажется, что она попала в другой город. Ей сложно поверить, что стоит лишь шагнуть за решетку, и сразу попадешь в освещенную огнями столицу, где по улицам катят самодвижущие повозки и трамваи, и нарядные дамы, посмотрев вечерний спектакль в театре, расходятся по домам.
– Раньше этот переулок назывался Аптекарским, – замечает художница, прочитав вывеску на одном из домов.
– Нет, я не верю, – качает головой София Павловна. – Ничего мы там не найдем.
– Знаешь, я всегда представляла, что это будет самая обычная с виду дверь. Но ведь такого не может быть?
– Откуда мне знать, – София Павловна ежится и обнимает себя рукам за плечи. – Когда я об этом думаю, мне становится не по себе, все внутри сжимается.
Барышни идут рядышком по темному безлюдному переулку, спрятанному в самой сердце столицы.
– Я тебе говорила, что у меня две сестры? – спрашивает София Павловна.
– Нет, ты рассказывала только про Евдокию. Я помню, она дознаватель в жандармерии. И это она упекла тебя в Заведение.
– Я самая младшая. Евдокия – это средняя сестра, а старшая у нас – Ида, – рассказывает София Павловна. – Ида Павловна Брошель-Вышеславцева, член географического общества. Ты не могла про неё не слышать. Это она ходила в Индию и поднималась в стратосферу на вимане.