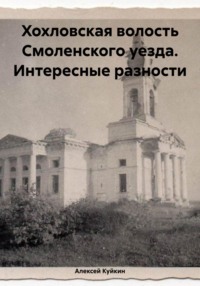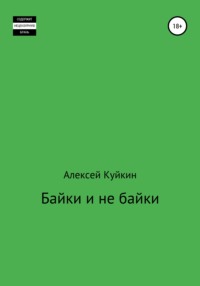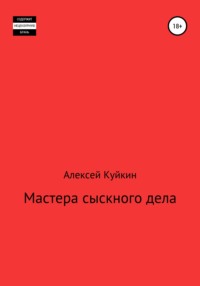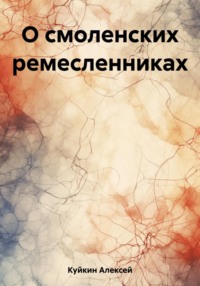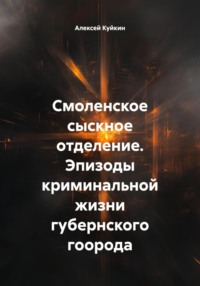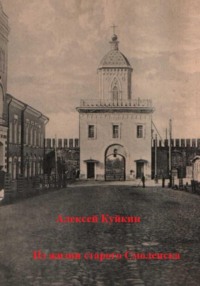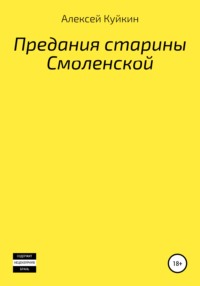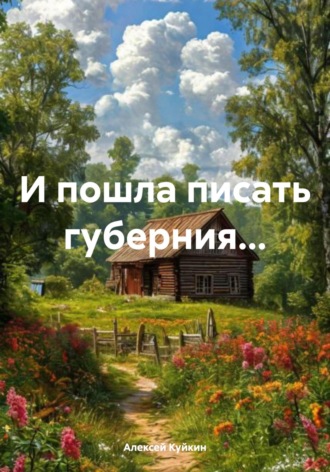
Полная версия
И пошла писать губерния…
Всё время расследования Гладышева Анатолий Медведков бомбардировал все губернские инстанции прошениями о переводе в тюрьму губернского города. Я, мол, там живу, почему же меня держат в Вязьме? И ведь добился перевода. А на второй день пребывания в тюрьме Смоленска написал начальнику тюрьмы прошение с просьбой собрать консилиум врачей для обследования состояния его здоровья. Вяземские, мол, доктора его не устраивали, а вот медикам из губернского города он полностью доверяет. И эскулапы признали здоровье Анатолия Николаевича Медведкова совершенно подорванным. По медицинским показаниям он не мог содержаться в тюрьме. Вскоре его и выпустили. А через месяц подполковник Гладышев направил дело Медведковых прокурору Смоленского окружного суда с просьбой о закрытии за недостаточностью улик.
25 июля 1905 года в местечке, называемом смолянами Новая Ямщина, неподалёку от летних лагерей 1-й пехотной дивизии в заросшем кустарником овраге обнаружен труп неизвестного с двумя огнестрельными ранениями. Следствие установило, что погибший – Хаим Иоселевич Адаскин, 17-ти лет, смоленский мещанин. По словам его брата Нисона, Хаим 24 июля около четырёх часов пополудни ушел из дома получить деньги с должников – лавочников в Новой Ямщине. Уездный врач Рутковский, производивший вскрытие, установил, что Хаим Адаскин погиб от сквозного пулевого ранения в районе крестца, в результате которого была разорвана левая подчревная артерия. Вторая рана оказалась касательной. Из-за характера ранений следствие не смогло определить из какого оружия был застрелен молодой еврей.
Вы спросите, а почему это убийство попало в дела прокурорского надзора. Всё дело в событиях 24 июля 1905 года, состоявшихся неподалёку от воинских лагерей. Именно в тех местах Максимилиан Швейцер проводил «Солдатский праздник» от партии социалистов-революционеров. Вот и теперь эсэры собрались в том же месте и взялись вести агитацию среди нижних чинов. Но то ли не на тех напали, солдатики оказались верными присяге, то ли забыли главное, что было у Швейцера на «Солдатском празднике» – организовать закуску для нижних чинов. Ротные фельдшеры Нарвского пехотного полка Алексей Вихорев и Александр Барышников перед вечером доложили дежурному по полку капитану Дашкову, что в овраге за лагерями собралась сходка подозрительных людей. Оные молодые люди зазывают к себе солдат, читают им какие-то прокламации и склоняют к неповиновению начальству, уверяя, что если несколько человек взбунтуются, то полк на театр военных действий на Дальний Восток не пошлют. Капитан Дашков приказал поручику Беляеву и зауряд-прапорщику Мельникову взять по полуроте солдат, и на месте сходки задержать все принимавших в ней участие нижних чинов. Полуроты развернувшись в цепь, с двух сторон подошли к месту сходки, задерживая всех встреченных молодых людей и барышень на своём пути. Всего было задержано 24 человека, препровождённых после под конвоем в Смоленское губернское жандармское управление. Поручик Беляев и зауряд-прапорщик Мельников утверждали, что в сторону солдат некоторые убегавшие в овраг революционеры стреляли из револьверов. На это Беляев приказал троим нижним чинам из своей полуроты открыть ответный огонь. Произошло всё это около восьми часов вечера. А утором неподалёку в овраге был найден труп Адаскина. Поначалу военное начальство отказалось указать фамилии стрелявших солдат.
Ходивший из Новой Ямщины за своими лошадьми Шлёма Буркевич показал следователю, что видел, как нижние чины у оврага гонялись за каким-то молодым человеком, после чего раздалось несколько выстрелов. На вопрос Буркевича, что, мол, происходит, проходившие мимо солдаты отвечали, что кто-то из солдат то ли подстрелили, то ли убил еврея. Задержанные на сходке Татьяна Костюшко, Татьяна Жмуркина и Люба Фрадкина показали следователю на допросе, что пока они находились под охраной военных, какой-то солдат, краснорожий, полный, по-видимому выпивший, хвастался своим сослуживцам, что застрелил убегавшего еврея. Я, говорит, ему кричу, чтобы он стоял, а он всё бежит. Я выстрелил, он упал, даже через голову перекувыркнулся…». На запрос судебного следователя командир 3-го Нарвского пехотного полка ответил, что дознания среди нижних чинов кто стрелял произведено не было. Однако только рядовой Даниил Николенко предъявил дежурному по полку капитану Дашкову свою винтовку без двух патронов в обойме.
Судебный следователь по важнейшим делам по окончании следствия в своём заключении по делу просил прокурора окружного суда передать дело по подсудности в управление смоленского уездного воинского начальника для направления в органы военного суда. Но наказания для Николенко не последовало. Вместо этого в газете «Днепровский вестник» был опубликован приказ по Нарвскому полку, в котором командир полка объявлял нижним чинам за службу «спасибо» и награждал денежными премиями Вихорева, Барышникова и некоторых других солдат, отличившихся при разгоне сходки революционеров. Благодарности от командира полка получили капитан Дашков, поручик Беляев и зауряд-прапорщик Мельников.
А в губернском городе Смоленске всё неспокойней. И уже гремит над вокзалами железной дороги «Варшавянка» – объявили забастовку железнодорожные служащие. 13 октября 1905 года к рядовым 306 Ковровского пехотного полка Андрею Панькину и Михаилу Горохову обратился товарный кондуктор станции Смоленск Риго-Орловской железной дороги Иван Васильевич Татаринов. Сей муж попытался объяснить нижним чинам, присланным усилить силы полиции и станционных жандармов в борьбе с забастовщиками, что цель забастовки – улучшить положение крестьянства. Поэтому солдаты, как выходцы из того же сословия, должны не разгонять, а сплотиться с бастующими и поддержать требования революционных масс. Выслушав кондуктора, солдаты, плюнув, послали Татаринова по всем известному адресу, тому который все знают, но никто дойти не может. Иван Васильевич тоже туда идти не захотел, а стал выискивать себе нового собеседника. И обратился с тем же посылом к одному из проходивших по перрону унтер-офицеров Ковровского полка. На его беду унтер Петр Михайлович Абрамович оказался выходцем из дворян Воронежской губернии. Ухватив кондуктора за ворот форменной шинели, дворянин поволок пропагандиста к станционному жандарму. И вот уже подполковник Гладышев подшивает протоколы допросов в новое «охранное следствие». Однако 2 ноября 1905 года дело в отношении Татаринова было закрыто прокурором Смоленского окружного суда.
Жуткая всё ж таки штука эти революционные вихри. Крутят-мутят-вертят людьми, не взирая на сословную принадлежность, чины и вероисповедание. 20 октября 1905 года толпою демонстрантов была разгромлена тюрьма в Вязьме Смоленской губернии. Предводительствовали демонстрантами два артиллерийских офицера Кошкин и Кордымов. Толпой из тюрьмы выпущены двое политических арестантов и четверо следственных. По распоряжению воинского начальства офицеры были арестованы и содержались на смоленского гауптвахте. Следствие по этому делу было поручено исполняющему должности следователя по важнейшим делам Громову. Тот, однако, не спешил исполнять свои прямые служебные обязанности, и даже не перевёл Кошкина и Кордымова с гауптвахты в тюрьму. Смоленский губернатор обратился к прокурору Московской судебной палаты с просьбой повлиять через прокурора смоленского окружного суда на Громова.
Пробным шаром от московских чиновников был телеграфный запрос к смоленскому прокурору Стремоухову о переводе в тюрьму задержанных офицеров. Тот отвечал, что не может добиться от начальника артиллерии Гренадерского корпуса разрешения на этот перевод. Прокурор Московской судебной палаты обратился к Министру юстиции с просьбой заменить следователя Громова, так как из Смоленска пришли сведения о том, что оный Громов по заступлении на свою нынешнюю должность имеет тесные сношения с людьми из революционных партий. Следователь по важнейшим делам открыто говорит, что разгром вяземской тюрьмы есть лишь один из актов освободительной борьбы и задержанные вожди сего погрома должны подлежать амнистии. По делу о попытке избиения евреев в Смоленске группой прогрессистов, руководство которой приписывают смоленскому купцу Рыжикову, следователь Громов во всеуслышание заявлял о своём мнении об аресте купца Рыжикова и содержания его в тюрьме до конца следствия.
Московский прокурор указывал и на бурную личную жизнь следователя Громова. Ещё на прежней своей должности в Нижегородской губернии Громов имел связь с крестьянкой, с которой вне брака прижил несколько детей. Эту женщину он перевёз с собой в Смоленск. Смоленский прокурор докладывал в Москву, что Громов часто пьянствует и в пьяном виде с револьвером гоняется за своей гражданской женой, угрожая убить её или отправить назад в Нижний Новгород по этапу. В отношении следователя по важнейшим делам Громова Министерство юстиции начало расследование, подключив к нему и жандармское управление.
17 марта 1906 года в половину четвёртого пополудни в Смоленске на Большой Вознесенской улице у Дворянского пансиона выстрелом из револьвера в спину был убит помощник начальника Смоленского губернского жандармского управления подполковник Михаил Кузьмич Гладышев. По словам очевидицы преступления смоленской мещанки Марфы Лаврентьевны Васильевой, убийца (молодой человек, русской наружности, среднего роста, в чёрном утеплённом пиджаке, чёрном же картузе и русских высоких сапогах) после выстрела бросил оружие на землю и убежал в сторону Малой Вознесенской. Раненый Гладышев смог пробежать несколько десятков шагов, преследуя убийцу и сделать по нему два выстрела из своего «Браунинга». После чего без сознания упал на крыльце Дворянского пансиона. Помощник воспитателя Дворянского пансиона Чернецкий вместе со сторожами Касьяновым и Николаевым занесли Гладышева в пансион, но через пару минут жандармский подполковник скончался. Немногочисленные свидетели (кучер Петра Петровича Рачинского крестьянин Дорофей Павлович Зуев, почтальон Антон Степанович Цыкота, курьер Смоленского окружного суда Василий Иванович Иванов) видели бежавшего по Малой Вознесенской и Николаевской улицам молодого человека. Марфа Васильева и отставной штабс-ротмистр Алексей Бонифатьевич Щуко описывали также убегавшего от места преступления мужчину лет тридцати, с короткой бородой, в коротком, коричневого цвета пальто. Но сообщник ли это преступника или просто испуганный свидетель, спешивший удалится подальше от места убийства, следствию установить не удалось.
Судебный следователь Захаревич, опросив под протокол свидетелей и обследовав место преступления, усердно взялся за поиски. Через пару дней в губернском городе появились печатные прокламации от партии социалистов-революционеров, в коих говорилось, что Гладышев был приговорён эсерами к смерти за репрессии в Рославльском уезде, которыми он руководил в конце 1905 года. Исполнил же приговор один из членов летучего отряда боевой дружины северо-западного областного комитета партии эсеров. Смоленское жандармское управление под руководством генерал-майора Громыко в ход следствия не вмешивалось, предпочитая вести какие-то свои тихие игры.
23 марта на Большой Благовещенской улице на окне кондитерской Ранфта была взорвана петарда. Прибежавший на место городовой Алексей Кондратьев задержал, показавшегося ему подозрительным, ученика 4-го класса гимназии Мечислава Аниховского. У него был изъят револьвер «Бульдог», заряженный тремя боевыми патронами. В полицейской части Аниховский повинился и назвал имена своих сообщников. По нескольким адресам в городе полицией были произведены обыски, изъята нелегальная литература, прокламации социалистов-революционеров и холодное оружие. Но привязать вскрытую ячейки эсеров к убийству Гладышева не получилось, у всех членов группы на момент совершения преступления было железное алиби. Захаревич показал свидетелям все имевшиеся у полиции фотографические карточки членов партии эсеров, но ни в ком не опознали убийцу.
Следствие продолжалось более полутора лет, после чего следователь Захаревич запросил у прокурора окружного суда закрытия дела, так как следствие «исчерпало все возможности к раскрытию личности убийцы подполковника Гладышева». Дело отправилось в архив, приказом окружного прокурора вещественные доказательства по делу (револьвер и пуля, извлечённая при вскрытии из тела Гладышева) были уничтожены. Однако ещё не раз пришлось прокурорским сдувать архивную пыль с этой толстой папки. Уже в 1909 году ожидавший отправки на каторгу в московской пересыльной тюрьме Павел Казаков (из крестьян деревни Малая Стодолица Полцевской волости Рославльского уезда, осуждён за антиправительственную деятельность на 12 лет каторжных работ) сообщил тюремному надзирателю, что его сосед по камере Дмитрий Яковлев (из крестьян Юхновского уезда Смоленской губернии Покровской волости деревни Темникова, 20 лет каторги) хвастался, что это именно он, приехав в Смоленск из Москвы, застрелил помощника начальника жандармского управления. Но показания Казакова не подтвердили другие его сокамерники, а по фото Яковлева не смогли опознать свидетели, ссылаясь на давность лет, прошедших с момента совершения преступления.
21 апреля 1910 года крестьянин деревни Лозынь Спасской волости Смоленского уезда Василий Михеевич Горбачёв поведал новому начальнику смоленских жандармов полковнику Иваненко, что сидел в смоленской пересыльной тюрьме в одной камере с ельненским мещанином Владимиром Ивановичем Милеевым. Этот социалист-демократ рассказал ему, что именно ему выпал жребий расправиться с Гладышевым. Жандармами был послан запрос в тюрьму, начальник которой категорически заявил, что никогда политический заключённый не мог быть посажен в одну камеру с уголовником, которым и является Горбачёв. Соответственно никакими тайнами Милеев с Горбачёвым поделиться не мог.
А делу Гладышева всё не лежится спокойно на архивной полке. В начале января 1911 года на имя смоленского полицмейстера приходит анонимное письмо, в котором в убийстве подполковника Гладышева обвиняется наборщик Иван Иванович Гырлин. На этот раз доследование поручают полицейскому надзирателю смоленского сыскного отделения Владимиру Ивановичу Грундулю. Тот выяснил, что семья Гырлиных давно уже под наблюдением смоленских жандармов, так как считается неблагонадёжной. Жандармы познакомили сыскаря с делом 1908 года. Старший брат Ивана Пётр Иванович Гырлин совместно с нелегальным Александром Сидорком 1 ноября 1908 года убили городового 3-й части Смоленска Петра Пивоварова. При попытке их задержания на квартире Сергеенкова в доме Михайловой на Митропольской улице ранили стражника Щукина и городового 2-й части Яцутина, после чего сбежали в Поречье. Там имели перестрелку с городовыми и полицейскими стражниками, в которой были убиты. Но найти доказательства причастности Ивана Гырлина к убийству подполковника Гладышева не смог ни Грундуль, ни жандармы.
В губернском жандармском управлении Грундуль смог выяснить, что в убийстве Гладышева подозревался в ходе охранного расследования смоленский мещанин переплётчик Владимир Фролович Иванов. Доказать, что он убийца жандармы не смогли и Иванов был выслан в отдалённую губернию на поселение в административном порядке.
В ноябре 1913 года содержащийся в Екатеринославской губернской тюрьме Михаил Игнатьевич Акимов признаётся в убийстве Михаила Кузьмича Гладышева и пристава города Рославля Клетина. И снова нужно проверять показания очередного политического арестанта. 13 декабря 1913 года товарищ прокурора Екатеринославского окружного суда Жигачёв снял показания с Михаила Акимова. Оный арестант, рассказывая об убийстве подполковника Гладышева постоянно именовал того полковником и начальником смоленского жандармского управления, путался в дате убийства. По его словам, он, Акимов и его подельник Василий Чекалдин привели приговор партии социалистов-революционеров северо-западного округа летом 1905 года. Застрелили они Гладышева якобы на берегу Днепра. Также были несоответствия и в показаниях об убийстве пристава Клетина. Смоленские следователи запросили из Екатеринослава новый допрос Акимова, но получили ответ из тюрьмы, что арестант Михаил Игнатьевич Акимов умер от туберкулёза в тюремной больнице 14 февраля 1914 года.
10 ноября 1907 года в 17 часов вечера, перед всенощной, целая банда грабителей, вооружённых маузерами и бомбами, напролом шла на Крыпецкий монастырь, будучи уверена, что здесь им не дадут отпора. И действительно, они встретили в стенах монастыря только невооружённых сторожей и беззащитных иноков числом 12-15 человек, собиравшихся идти ко всенощной. Расправиться с последними было не трудно, несколько выстрелов из револьверов, и защитники монастыря лежали на земле бездыханными трупами. Группа полит ссыльных латышей-националистов (примерно 11 человек) совершила налёт на известный Савва-Крыпецкой монастырь с целью ограбления. По ходу дела революционеры в масках, вооруженные маузерами и бомбами, убили 2 монаха, 2 работника, послушника и слепого звонаря, который успел набатом оповестить окрестных крестьян, тем самым сорвав планы боевиков. Впоследствии террористы были задержаны, а некоторые убиты в перестрелках. Одного из них отряд псковских стражников настиг в двух верстах от Торошино, он долго отстреливался из пулемёта и погиб от взрыва двух бомб, в которые попала пуля стражника.
7 декабря 1907 года прокурор Смоленского окружного суда получил уведомление от прокурора Псковского окружного суда, в котором указывалось, что одна из подозреваемы по делу о нападении на Крыпецкий монастырь, известная в организации латышских националистов под кличкой «жена трёх мужей», проживает неподалёку от села Болтутино Ельненского уезда у некого Велина называя себя «Эльзой». Псковский чиновник также прислал в Смоленск фотографическую карточку, на которой оная Эльза запечатлена в компании неизвестных мужчины и женщины. Пристав третьей части города Смоленска докладывал прокурору окружного суда, что высланная из Прибалтийского края Екатерина Страутман (она же Швита-Дами, она же Трайс-Виру, тридцати лет, блондинка, в очках, короткостриженая, худощавая, среднего роста) некоторое время проживала в Смоленске на Тюремной улице в доме № 8. Перебравшись к Велину в Болтутино с целью, якобы, изготовления и продажи коровьего масла, ожидала получения денег от своих родственников и пробыла у Велина около месяца.
По сведениям полиции Страутман посещала некая Эльза Мурник (она же Мария Земид, она же «Саша»). Эльза была арестована в деревне Аняково Болтутинской волости Ельненского уезда в доме землемера Луки Хрисаненко. На стук в дверь землемер, вооружившись «Маузером-С96» (опять Маузер, как и у нападавших на монастырь националистов), попытался оказать сопротивление. Однако, взведя курок, не снял пистолет с предохранителя. Вломившиеся в дом полицейские, опасную игрушку отобрали и всеми доступными средствами (кулаки, сапоги, приклады винтовок и ножны шашек) разъяснили Хрисаненко, что мешать полиции дело гиблое. Мурник отвезли в Смоленск, а Лука был оставлен в Аняково. В розыск был объявлен работник Велина рижский мещанин Белоглазов (19-ти лет, шатен среднего роста, пострижен в скобку, глаза карие), который за день до ареста Эльзы уехал вместе с Екатериной Страутман по слухам в Минскую губернию.
Интересна переписка псковского и смоленского прокуроров. Жаждущий крови псковитянин, официально запрашивает смоленского коллегу возбуждено ли дело против землемера Луки Хрисаненко, который пытался оказать сопротивление чинам полиции. Николай Николаевич Чебышев, прокурор Смоленского окружного суда, в своём ответе вопрошает, а за что, собственно, привлекать к уголовной ответственности дурака-землемера, которому вскружила голову смазливая латышка. Вся его вина заключается в том, что во время ареста он стоял с поставленным на предохранитель пистолетом у дверей своего дома. На руках у смоленского прокурора и так масса политических дел.
На фоне революционных безобразий в конец распоясались и обыкновенные уголовники. В 11 часов вечера 22 ноября 1907 года неизвестные вломились через кухню в дом владелицы имения Спасское Краснинского уезда Марии Ивановны Высотской. Хозяйка с двумя служанками Ириной Петровой и Фёклой Куприяновной Грузенковой закрылись на замок в господской спальне. Нападавшие, числом судя по голосам трое, попытались дверь взломать, требуя отдать все деньги и угрожая зарезать женщин в случае отказа. Дверь не поддалась, и грабители, забрав с собой много разных вещей, удалились. Оказалось, что похищены: два самовара, шуба, офицерская шинель, овчинная полость, несколько пар валенок, всего на общую сумму в 60 рублей.
Через пару дней лесник землевладелицы Азанчеевой Осип Барышев донёс в полицию, что на утро после ограбления Спасского видел в своём лесу греющихся у костра троих мужиков, у которых было несколько объёмных мешков. В одном из них лесник узнал знакомого ему крестьянина Петра Фёдоровича Грузенкова. Краснинская полиция на основании этих сведений решила, что злоумышленники направились в губернский город, о чём и сообщили смоленскому полицмейстеру. Уже 7 декабря в Смоленске был задержан Пётр Фёдорович Грузенков, который сознался в ограблении имения Высотской и назвал своих подельников – крестьян Сергея Петровича Романенкова и Виктора Егоровича Абраменкова. По словам Грузенкова, большую часть награбленного они сбыли в Лубне лавочнику Алексею Павловичу Щепилло. У лавочника урядник обнаружил два самовара, часы, подушку, шубу и ботинки. Офицерская шинель и овчинная полость были уже проданы цыгану Абраму Цыбульскому, который по требованию урядника вещи тотчас возвернул.
На допросах грабители рассказали, как дошли до жизни такой. Грузенков и Романенков всё лето работали в Смоленске на кирпичном заводе. В начале осени стали ходить искать работы по имениям Краснинского уезда, но безуспешно. Там же к ним присоединился Абраменков. Рассудив промеж себя, крестьяне решили совершить ограбление. По дороге в Краснинский уезд остановились в Лубне у лавочника Щепилло. В одном из имений Краснинского уезда увели лошадь из конюшни, но её пришлось отпустить, так как была та скотина больной да хромой. Вернулись в Лубню, где Алексей свет Палыч посоветовал им переключиться на кражу коров и даже выдал для этого верёвку. Шайка направилась в Спасское, но замок на дверях хлева не поддался. Тогда горе-разбойники и вломились в господский дом. После грабежа по пути в Лубню остановились в Перховичском лесу, где их видел лесник Барышев. В Лубне пробыли два дня, получив от Щепилло водку, колбасу и другие съестные припасы. За украденные у Высотской вещи лавочник заплатил каждому из крестьян по 60 копеек серебром.
Алексея Щепилло полиция привлекла было в качестве обвиняемого за укрывательство разбоя и скупку краденного. Но тот выкрутился, рассказав, что 22 ноября к нему на постоялый двор пришли Грузенков, Абраменков и Романенков. Взяли продуктов и водки на рубль пятьдесят. Так как денег у них не оказалось, предложили купить имевшиеся у них вещи. Лавочник заплатил за предложенное ему 13 рублей 50 копеек.
Смоленский окружной суд привлёк крестьян деревни Мальцева Мерлинской волости Краснинского уезда Петра Фёдоровича Грузенкова 25-ти лет, Палкинской волости деревни Аушково Сергея Петровича Романенкова 39-ти лет и Каблуковской волости деревни Дмынич Виктора Егоровича Абраменкова 21-го года в качестве обвиняемых по делу о разбойном нападении на усадьбу Марии Ивановны Высотской. 12 марта 1909 года по решению суда каждый получил по три года тюремного заключения. А вот Щепилло был полностью судом оправдан. Грузенков за отличное поведение был в октябре 1911 года освобождён досрочно. А вот Абраменкову в тюрьме не сиделось.
10 июня 1911 года Виктор Абраменков сбежал из куреня «Токовый» Николаевского исправительного отделения города Екатеринбург. Был пойман, но уже 31 июля удрал с уличных работ из куреня «Затоковый». Был переведён в Илецкое исправительное отделение где и просидел аж до 21 августа 1914 года.
В Империи идёт борьба с незаконным самогоноварением и без акцизной торговлей спиртными напитками (с 1896 года установлена государственная монополия, как-никак), и на стол прокурора окружного суда попадают и такие дела.
Штатный контролёр Смоленского акцизного управления Жук 11 марта 1909года проводил проверку по заявлению крестьянина деревни Чистяки Богородицкой волости Ивана Семёновича Павлюченкова, который обвинял в незаконной торговле хлебным винном своего однодеревенца Артёма Ивановича Павлюченкова. Крестьянин деревни Конюхово Богородицкой волости Смоленского уезда Семён Фомич Моисеенков при опросе показал, что сам никогда у Артёма Павлюченкова водки не покупал. Но как-то раз, играя в карты в доме Ивана Семёновича Павлюченкова с Дмитрием Гусаровыми и с хозяином дома, так распалились в азарте, что решили «сбрызнуть душу казёнкой». Гусаров сбегал во двор Артёма Павлюченкова и вернулся с запечатанной бутылкой «красноголовки». Дмитрий Иванович Гусаров поведал акцизному чиновнику, что водку ему вынесла невестка Артёма Павлюченкова Татьяна Антоновна.
О неоднократной покупке казённого вина бутылками и полубутылками в доме Артёма Павлюченкова дали показания Конон Михайлов, Пётр Владимиров и Иван Семёнович Павлюченков. Вино им продавал как сам Артём, так и его родственники мать Варвара Алексеевна, жена Ефросинья Осиповна и невестка Татьяна Антоновна. За бутылку платили по 55 копеек, и пустую посуду заносили обратно в дом Артёма. А вот крестьяне той же деревни Яков Ефимович и Борис Яковлевич Медведевы никогда водки у Павлюченкова не покупали, да и никогда про ту торговлю и не слышали. Борис Медведев с гордостью заявил контролёру Жук, что водки не пьёт вовсе.