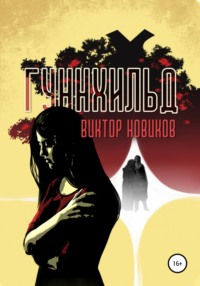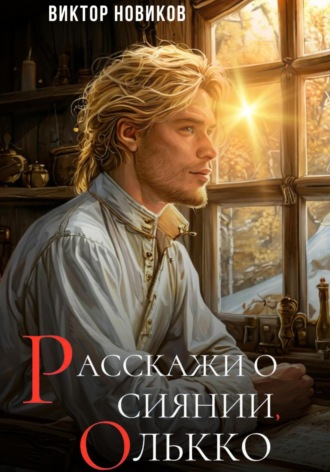
Полная версия
Расскажи о сиянии, Олькко
Дурманно, душно в сердцевине палатки чадят жаровни. Бесчисленные, толстые – и посему предорогие – свечи, трепеща от дуновений ярко-жёлтыми язычками в горячих ротках, сдвинуты тесно друг к другу и тонут, тонут в остывающих восковых озёрах. Свечи, можно сказать, вторы́-живы́ здесь – кроме людей…
Люди в палатке большей частью, как царесвойственник, сидят смиренно на коленях, выжидая своего, как на иголках, а кто-то кучкой меньшею, вольготно развалившись, веселится в высоком углу, стланном коврами и подушками расшитыми.
Веселящиеся одеты и кичливо-богато, не хуже царёвых придворных, и как совсем оборваны, грязнó, засаленно – в деревне Олькко так последние бедняки не ходят, моются всё ж, латаются. Оборвыши, впрочем, кто с отрезом сверкучей парчи или куском меха собольего поверх обносков, а кто в ожерелье и перстнях тонкой работы. Гогоча, едят и пьют себе из заляпанного серебра-золота, притом как на низком столу их есть и старая посуда из дерева да кости.
Они пируют, а другие, сидящие опричь стола пиршественного, едва дыша, смотрят.
И очень – очень-очень – разное в глазах у опричь сидящих…
Глава 3
– Уточка, матушка, куда ты собираешься?
– На запад, яичко серó высиживать.
– А кто из него вылупится?
– Сон кромешный.
Один из пирушников, меж всех наитолстый, на шутку стаскивает с пухлого пальца кольцо, свитое сложным чередным узором из пары проволок. Стаскивает и грузно, нарочито неловко тянется к вороху тканей. Грязной босой пяткой он задевает глиняный сосуд – тот опрокидывается и со звоном раскалывается.
По коврам, овечьим шкурам, топтанной земле блохами скачут из сосуда самоцветные камушки, даже необработанные такой силы, такого огня нутряного, что невиданные украшения царёвых придворных и самого царя меркнут, жалкие, невзрачные. Дальние, самые первые и смелые из камушков прибегают к коленям непирующих, и те душат в холодном поткé собственную жадность, ежели она у кого проснулась.
Толстяк, ухохатываясь, наконец, выщупывает и вытаскивает из вороха отрезов искомое – тонкую, почти прозрачную ткань непонятно какого цвета или всех, верно, цветов разом. Держа высоко большим и указательным пальцами левой руки своё кольцо, толстяк поднимает вдобавку, третьим, мизинец и квакает друзьям, обещая, мол, чудо, на кое те на миг отвлекаются от веселья, еды и пития…
Толстяк всовывает в кольцо кончик волшебной ткани.
Меняет ловко левую руку на правую – не позволив кольцу не то что упасть, а шевельнуться в воздухе! Кудесник, не иначе!..
И левой, теперь свободной рукой сквозь маленькое колечко резким свистящим рывком продёргивает всю ткань, оставшуюся с той стороны…
– Буга! О! – не сдерживается кто-то из сидящих опричь, не допущенных к пирушке.
«Матушке бы, – Олькко поражается тоже, – на вышивку… Она бы, ох, расшила! Вся деревня б разрядилась! Краше девок, баб да старух даже древних с платками и косынками такими нигде на свете не было бы!.. Матушке, матушке бы!»
Ткань, прошедшая кольцо, расправляет складки точно бабочка крылья. Парит-оседает в воздухе невесомым облачком.
Но, чу, свист – и она вьётся уже двумя кусками… Один из товарищей толстяка с ленцой поигрывает обнажённым узорчато-переливчатым клинком, то кидая его вверх, то ловя за кончик.
Пирушники смеются и толстяку, и другу его, ножиком ткань в полёте рассёкшему…
И у малоопытного глупого Олькко всплывает понимание – самоцветы-яхонты, жемчуги, толстые свечи с благовониями, шёлк тонкий, булатный ножик да много чего другого ничуть не случайны. Это испытание для тех, кто шёл долгую очередь, дабы притулиться в палатке здесь.
Кое-кто из таких – снова вроде случайно да мимоходом-присказкою – окликается пирушниками.
К нему даже подходят, не переставая смеяться, и показывают ладонью на стол с яствами… Приглашённый порывается было встать, но ничком падает от хлёсткой, нежданной, позорной оплеухи.
Соседи его, переваливаясь с бедра на бедро, как куры на насесте, раздвигаются.
Униженного тащат за воротник на ковры подле стола. Он не сопротивляется, лишь пыхтит, краснеет и перебирает, опираясь о пол растопыренными пальцами в помощь тащащим.
У стола его швыряют навзничь, и он вскидывает, словно в защиту, грязные уже ладони. На них и в лицо ему смачно харкают, плюют, чтобы они, наверное, ярче блестели в неровном свечном свете. На напрягшееся лицо ступают пачканным конским навозом сапожком и спрашивают чего-то, спрашивают, хохоча всё бесстыдней, глумливей, дела не имея до маловнятных ответов…
Негромкий окрик это прекращает.
Раззадоренные унижением – унижением такого родовитого ими, безродными, но верх сеймиг над родовитым имеющими – влёгкую окрика б не расслышали, но в их костерок точно бочку воды выплеснули. Все они возвращаются за стол, а из-за стола подымается кто-то неприметный… Кто и кричал.
Гость, шатаясь, оплёванный, изгаженный, встаёт на ноги.
Неприметный сходит к нему. Смотрит глазами агатовыми без век участливо-участливо, журча-говоря утешающе. Возраста он нечитаемого, одет просто, чисто и – как подмечает сам Олькко, подобных одёж никогда не видевший – по-достойному.
Неприметный берёт откуда-то ковш с водою и, смиренно, поклонившись в землю, льёт гостю на нечистые ладони, а потом протягивает и припасённый рушник.
Гость умывается, утирается… Неприметный – гостю он ровно по грудь, уже в плечах вдвое – приветливо глядит в гостево лицо, не переставая говорить-журчать и улыбаться, а гость отводит взгляд и кивает молча, кивает.
Олькко, мало чего понимающий, замеревший было как мышь, вновь чувствует что-то нехорошее. Как во дворце до этого…
Бегло, по-звериному он озирается, зная уже, куда и на что смотреть – будто в повторившемся за ночь плохом сне.
В чёрных длинных-длинных космах плесени, оказывается, тут всё вокруг, вплоть до пламенеющих свечей. Она, застарелая настолько, что схожа уже со слинялой змеиной кожей, давно припеваючи живёт на затенённых столбах и полотне палатки. Колышется себе неслышно, точно трава речная под течением.
Чем она тут только, проклятая, ни питалась, чего только ни видела… За ответами Олькко стоит глянуть на толпу, где до того сидел гость – и где сейчас сидит перекошенный от зависти и гнева царесоплеменник – и на стол с чинно сидящими, заткнувшимися пирушниками.
Неприметный, самый здесь главный, хлопает своею ладонью по подставленной ладони гостя.
С размаху. Гулко.
Ладонь о ладонь. Печать людская. О желанном для гостя договорено…
И будто тронулось что-то. Будто лёд речной прозвенел натянутой меж берегами струною, предвещая половодье.
Плесень проклятая давным-давно не как трава речная колышется, а как гибкие, молодые берёзы с пышною по-летнему листвою под сильным ветром. И нет больше за ветвями их этой палатки, затерянной в Великой Степи вместе с другими её сёстрами, нет больше людей из очереди и за пиршественным столом. Последними проглочены плесенью гость с неприметным – колючие щупальца чёрного водоворота, вращаясь, тянутся, скручиваются к их рукопожатию… Перед взглядом у Олькко плавают тёмные пятна, как после удара кулаком в висок. Будь нос сейчас у Олькко, в него залез бы ещё едкий, затхлый запах гнилого болота-мочежины.
Олькко отчего-то дурно, противно от обилия ожившей плесени. Ему самому уже хочется угрём или ужом извиваться. И плесень жжёт хлеще всякой крапивы – будь тело сейчас у Олькко, его била бы, изгибала судорога, а в рот обратно из желудка в противление яду текла полынно-кислая желчь…
Как во сне – чтобы только сам сон не прервался – Олькко, словно во спасение, неведомая сила возносит над бурными чёрными потоками плесени.
Её наросло уже целое море. Море незримое, невсамделешное, хотя некоторые живые, из знающих, тоже ощутят его – как вот Олькко сейчас.
Охлынь-волна, волна-волнище чёрного моря этого катится, как по вдруг открывшемуся пустому руслу, к белокаменному городу далеко-предалеко от палатки в Великой Степи.
Ни неприметный, ключник богатейшего из торговых путей, ни родовитый гость его, голова городка соседнего белокаменному, и слова в беседах не сказали про белокаменный. Думать про него не думали да против были бы, но… Незримая волна-охлынь чёрной плесени неукротимо, беззвучно обрушивается на белокаменный город, не встретив отпор ни от крепостной стены, ни от деревенек поперёд, ни от домов на извилистых улочках. А горожаны как гуляли, так и гуляют, и грусти-смеху не стало больше или меньше.
«Бегите!.. – силится крикнуть им Олькко, но не может. – Бегите!»
И он наблюдает, как стены белокаменные ветшают, коптятся, роняют кирпичи, как сереют дома внутри города, как выцветают краски и позолота теремов его, как пустеют сёла-деревни окрест, а люди – те, кто не ушли, кому некуда, кои озлобились… Олькко отворачивается и вздыхает мысленно по-отцовски.
Город беднел, потому как торговля легла через городок, чьего голову Олькко видел в палатке середь Великой Степи век-другой, стало быть, уже тому назад.
Скоро сюда придёт завоеватель и затребует дань. Белокаменный город выкупа себе по бедности и разобщённости собрать не сможет и будет жестоко, в назиданье прочим, стёрт с лица земли…
* * *
– Олькко… Ольк-к-к-ко… – снова в мыслях стукает льдом призрачный неяркий голос.
Олькко откуда-то знает – это не кто иной, как сам Нок.
– Побывал, Олькко? Узрел, Олькко? Узнал, Олькко? – вопрошает Чёрный Нок. – Пойдём… Ещё побываешь, ещё узришь, ещё узнаешь…
Олькко видит море. Море без берега окрýг и без неба вверху. Море, в сравнении с коим то ненастоящее море из Великой Степи – жалкий ручеёк-речушка. Оно бушует, как со всех цепей своих сорвавшись, волшебных и неволшебных, а в сердцевине его бездонным оком чернеет гладкое, спокойное-преспокойное озеро. Озеро много черней моря. Чернющее, черней дёгтя дядьки Екима.
Олькко смотрит на это озеро, и озеро в ответ тоже смотрит на Олькко. И медленно, едва-едва заметно, но неотвратимо близится к нему, надвигается. Хоть через сотни лет, хоть через миг, но Олькко будет, будет в его водах.
Кажется, оно-то, озеро, и предлагает – побываешь, узришь, узнаешь… Хочешь? Хочешь? Хочешь?
– Не хочу… – Олькко испытывает отвращение и словно как тошноту. Будь он жив, съёжился бы, плечьми передёрнул.
– Пой… Пойдём…
На, на, снова тебе, Олькко, корабль летящий, с хозяином в луже крови и чёрной плесени. Дворец с царём, коий жизнь шёл, кривдами-правдами карабкался на вышнюю вершину с троном, а завтра падёт преобидно с той горы да разобьётся, не поймав себе и другим несловимой птицы-счастье. Палатка степная, с тайнами и богатствами невиданными-неслыханными, город белокаменный, горожаны чьи опять гуляют, работают, торгуют и не знать не знают, что плоды рук их, чресел и чрев обречены, и что тщета им всё. А хозяин корабля, помнит Олькко, там на носе о чём-то же мечтал, чего-то хотел от похода, надеялся… Сколько, сколько такого Нок ему ещё покажет? Сколько, сколько раз его сожжёт или пожрёт чернота-плесень? Может, Олькко ещё где-то побывал, но после, сейчас, как бывает во сне, не помнит, забыл тут же навсегда… И для Нока это точно игрушки, свистульки, лошадки, погремушки. На, на, мол, бери, только поиграй со мной…
Ощущение рвущей нутро, давящей тошноты прирастает. Олькко сознаёт, каково это человеку при порче, которую так любят жалоб ради находить у себя старухи – когда желудок и глотку как шерстью, песком и железными иголками разом наполняет. Когда тебя будто разорвало, а затем вывернуть наизнанку, по-новому, быстро и наживо сшило наугад, абы жив был и умереть не успел.
– Не хочу… Так – не хочу, – Олькко повторяет и повторяет это в искреннем детском испуге озеру и Ноку.
По-комариному звонкое, высасывающее, злое молчание не сочувствует его мучениям. Ими же Нок словно упивается – очень они ему любопытны…
А Олькко, стоит лишь мельком так подумать, видит самого Нока.
Такого, каким видел его в лесу. Огромного, сей раз, может, даже немыслимо больше.
Над Олькко – как в лесу тогда – склоняется человеческое, верней, юношеское лицо, чем-то на его, Олькко, лицо похожее. Сей раз ещё в короне из множества старых и будто как лосиных рогов… Нок плачет чёрной блестящей кровью вместо слёз. Четырьмя щедрыми потоками – по потоку из каждого уголка глаза. Чувства на лице его странные, пугающие. Жилы-мышцы щёк, бровей, лба, губ двигаются непоследовательно, не по-должному. Не по-человечески, а как маска, как неумелое подражание. Нок словно забыл или не знает как правильно… Но человеческое там всё-таки есть, отчего Олькко ещё страшнее. Нок, как люди в глубокой нелечимой печали, глядит на Олькко, но смотрит вовнутрь себя, засасывая туда, в свою боль.
– Ты выбрал, Олькко.
Всё бескрайнее море разом вскипает грязной пеной, чёрное озеро лопается, будто нарыв-язва, чёрным гноем, заливая им весь мир от небес до корней земных. Взвившаяся от такой муки-боли буря, мать всех бурь, скашивает города, леса, горы, реки – если те в мире ещё уцелели – сносит, смывает их, словно течение мелкий песок, и гудит по-кошачьи – ву-у-у-у…Олькко стремительно несёт сквозь клочья-ошмёты сметаемого мира – горы-валуны, улицы с домами, целые утёсы с мохнатыми соснами – и он чудом не касается их даже. Олькко очень хочет закричать – перекричать режуще-свистящие встречные ветры и потоки воздуха, а с ними, самое главное, собственный страх, но, устав бояться, решает или понимает – для мёртвых нет ни ветра, ни воздуха.
Ещё Олькко знает, что Нок из обиды или злости своей сейчас его ударит. Знает это, как знал, что у гребца-убийцы в кулаке нож, что царь негласно приговорён, и что белокаменный город сгорит.
Он видит, как Нок, уже замахнувшись, всё медленнее и медленнее ведёт десницу к муравьишке-Олькко, против должного не теряя силу удара, а вовсе, вовсе напротив… Олькко закрылся бы локтями, сжался бы в клубок, если б мог, но от десницы Нока это его не спасёт. Набатным звоном в мыслях повторяется жестокий бессудный приговор:
– Ты выбрал, Ольк-к-к-ко.
Опережая Ноков удар, из рокочущей бури прямо, не отворотишься, на Олькко летит капелька от бывшего чёрного озера. Одна из многих, одна из бесчисленных тысяч своих сестричек, капелек-росинок. Маленькая, крошечная в сравнении с прежним озером, в которое-то и стекало всё чёрное с корабля, дворца, палатки.
В ней возвращается чернота чернее самой беззвёздной ночи – из тех, когда хоть глаз выколи, когда неважно, открыты твои веки или нет, когда не слышно ни воздуха в ноздрях, ни биения сердца, ни даже тока крови. Но там, там дом, где жить – вернее, не жить – Ольк…
– …лькко! Держись!