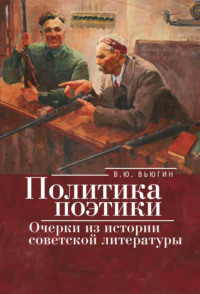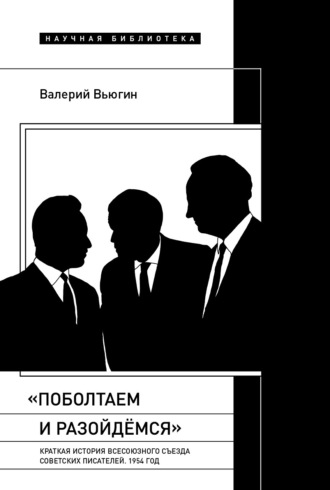
Полная версия
«Поболтаем и разойдемся»: краткая история Второго Всесоюзного съезда советских писателей. 1954 год
В статье 1955 года «Дилемма советских писателей: вдохновение или послушание?» за авторством F. F., напечатанной журналом «Мир сегодня», было сформулировано несколько иное понимание существа трений между литераторами на съезде и накануне. Второй Всесоюзный съезд советских писателей, по мнению F. F., завершился компромиссом, в чем автор видел проявление дуализма, царящего в высших политических сферах. Этот дуализм в конечном счете персонализировался:
…бесцветные резолюции, выразившиеся в попытке примирить ждановские требования с нетерпением писателей стряхнуть с себя ярмо чрезмерно строгой цензуры, как кажется, отражают шаткий баланс в высшей страте Советского Союза между партийными лидерами и администрацией, между партизанами Хрущева и партизанами Маленкова[13].
«Проблемы коммунизма» в 1955 году напечатали обзор Г. П. Струве «Второй съезд советских писателей», в котором автор буквально в нескольких абзацах изложил институциональную историю Союза советских писателей за два десятилетия, познакомил читателей с содержанием некоторых выступлений, обратил внимание на обезличенность представления власти на съезде, соответствующую идее коллективного руководства в противовес сталинскому «персонализму», и подытожил свои наблюдения выводом о том, что при всей неопределенности будущего советского писательства «тоталитарная хватка партии в области литературы остается столь же фундаментально твердой, как и прежде»[14].
Первый номер журнала «Проблемы коммунизма» за 1956 год содержал большую подборку материалов под общим названием «СССР после Сталина», в котором наряду с аналитическим обзором последних событий в советской внешней политике, экономике, науке и юриспруденции не меньшее место занимал анализ работы писательского съезда. О его итогах информировал У. Лакер в статье «„Оттепель“ и после»[15], а Дж. Лабер предложил развернутую концепцию транзитивных стратегий советских писателей в статье «Советские писатели в поисках новых ценностей». Лабер так сформулировал первый постсталинский призыв творческой элиты, отразившийся в произведениях И. Г. Эренбурга «Оттепель», В. Ф. Пановой «Времена года», Л. Г. Зорина «Гости»: «Довольно о новом „советском человеке“. Давайте думать о человеке как таковом» [Enough of the new „Soviet man“! Let’s think about the human being!][16]; именно этот призыв, с его точки зрения, вызвал раздражение консерваторов, во многом определившее конфликты съезда.
В 1957 году Э. Таборски, предлагая свою трактовку переворота в умах советских интеллектуалов, выделил три «раунда», описывающих то, что происходило с культурой в СССР сразу после похорон вождя. Первый совпал с провозглашением нового курса в речи Маленкова в апреле 1953 года, с созывом Всесоюзной конференции молодых критиков, которая проходила в Москве в сентябре 1953 года, и рядом журнальных публикаций, обозначавших этот курс. Второй раунд Таборски связал с реакционным возвращением к «ортодоксии», выразившейся в статье Суркова «Под знаменем социалистического реализма». На Втором съезде писателей эта тенденция, по его мнению, была закреплена. Третий раунд, открывшийся в 1955 году, оказался, в его трактовке, продолжением соперничества между ретроградами и новаторами[17].
Первая «несоветская» книга о литературе оттепели – «Просветы» В. И. Жабинского (1958) – упоминала о съезде лишь вскользь[18]. Зато уже в 1960 году Дж. Гибиан во вступительной главе книги «Интервал свободы: советская литература периода „оттепели“. 1954–1957» его не обошел. Гибиан акцентировал внимание на противоречиях в выступлениях делегатов, подчеркнув, как и Б. Малник, что советские литераторы неожиданно получили возможность вынести в публичное пространство те свои мнения, которые еще год назад высказывались только в кругу самых близких знакомых: свобода слова была очень ограничена, но все же нечто новое прорывалось даже в суждениях о таких незыблемых основаниях советского искусства, как социалистический реализм[19].
Г. Свейзи в 1962 году в монографическом исследовании «Политический контроль над литературой в СССР», посвятив отдельную главу предсъездовской ситуации, предложил довольно подробный анализ полемики на самом Втором съезде, включавший сравнение с Первым. Свейзи назвал то, что происходило в декабре 1954 года, «довольно унылой вехой в истории советской культуры», но не забыл отдать должное тому факту, что, повторяя его слова,
если Второй съезд и не дал почвы для ожидания значительных перемен в литературной политике, ‹…› он по крайней мере не напугал новой «кампанией» или дальнейшим стягиванием идеологического контроля[20].
Д. Браун в монографии 1978 года «Советская литература после Сталина» лаконично расценил дискуссию второго писательского съезда как доказательство того, что «оттепельное» партийное руководство было готово терпеть либерализацию литературы и искусства лишь в строго ограниченных пределах: прения, возникшие на конгрессе, выявили существование двух больших литературных фракций – либеральной и консервативной, – которые были обречены на жаркие раздоры и в последующие годы[21]. Несложно заметить, что его точка зрения в общих чертах напоминала оценку Таборски и позицию F. F.
Имеет смысл, наконец, задержаться еще на одном любопытном документе, демонстрирующем небезразличное отношение западных аналитиков к состоянию дел в Союзе писателей. В 2007 году Центральное разведывательное управление США рассекретило пятидесятистраничный доклад из серии, подготовленной в рамках проекта CAESAR, который был подчинен детальному анализу факторов, влияющих на высших представителей советской иерархии. Доклад датируется 15 сентября 1959 года, называется «Советский писатель и советская культурная политика»[22] и охватывает период с весны 1953 года по лето 1959 года. В нем красноречивы даже названия разделов: «Смягчение ограничений (весна 1953 г. – весна 1954 г.)», «Официальные ограничения без репрессий (весна 1954 г. – весна 1956 г.)», «Десталинизация в литературе» (весна – осень 1956 г.)», «Повторное утверждение ортодоксии (осень 1956 г. – весна 1957 г.)», «Товарищеское убеждение (весна 1957 г. – лето 1959 г.)».
Второму Всесоюзному съезду писателей нашлось место в разделе «Официальные ограничения без репрессий». Аналитики Центрального управления подчеркивали, что к весне 1954 года первоначальные усилия режима, направленные на либерализацию в сфере литературы, неожиданно привели к вспышкам спонтанной критики власти, основанной на идее креативной индивидуальности. Созыв съезда ассоциировался в докладе с реакцией на расширение этого неподконтрольного пространства социальных эмоций и настроений, а его ход был охарактеризован как доминирование контролируемого консервативного дискурса лишь с некоторыми проблесками несогласий.
Вывод же, вполне политический по характеру, предлагался такой: относительная смелость прозвучавших на съезде оппозиционных высказываний показала, что «либеральная» атмосфера, зародившаяся в 1953 и 1954 годах, приобрела известную устойчивость и препятствовала возвращению к существовавшим при Сталине жестким ограничениям в интеллектуальной сфере. Выражаясь словами авторов доклада, «очевидно, что режим не хотел переустанавливать стрелки часов слишком далеко назад». Вместо этого в условиях усиливающейся власти Хрущева режим попытался использовать съезд как средство для развития «литературной креативности» под опекой партийного руководства и при опоре на «критику и самокритику» среди самих писателей.
Итак, борьба политических группировок, ограниченная либерализация, акт реакции, критика бюрократии, выражение раздражения, попытка отказаться от понятия «советский человек» в пользу, говоря условно, «человека-как-экзистенции» – таков спектр основных оценок значения съезда, предложенных наблюдателями извне. В то же время как советская, так и вся несоветская «экзегетика» съезда сходились в признании факта, что не разногласия делегатов, а давление партийно-государственного аппарата оказывало решающее влияние на ход съездовской дискуссии.
Если говорить о наиболее значимых открытиях последних десятилетий, для воссоздания истории Второго съезда крайне ценны первопроходческие публикации P. М. Романовой и Т. В. Домрачевой 1993 года[23], содержащие ряд свидетельств, которые позволяют составить представление о подготовке к этому масштабному собранию с точки зрения закулисных сюжетов. Романова, в частности, обнародовала, по-видимому, первый из известных до самого недавнего времени официальных документов, где упоминается съезд, – датируемую августом 1953 года записку А. А. Суркова, К. М. Симонова и H. С. Тихонова H. С. Хрущеву с просьбой о его скорейшем проведении.
Внушительную фактографическую базу, касающуюся неафишируемой части предсъездовской кампании, содержит вышедший в 2001 году том документов под редакцией В. Ю. Афиани «Аппарат ЦК КПСС и культура. 1953–1957»[24]; он частично вобрал в себя и публикации Романовой и Домрачевой.
В связи с фактографией съезда заслуживает внимания опубликованная в 2005 году книга В. А. Антипиной «Повседневная жизнь советских писателей». Несмотря на то что Антипина большей частью анализирует обстановку вокруг Первого съезда, некоторые интересные данные, касающиеся Второго, в ее работе тоже представлены. Например, сопоставляя списки делегатов, Антипина приводит следующие цифры:
В 1934 году члены партии составляли около трети Союза. В РСФСР из числа 1535 писателей было 438 членов и кандидатов партии и 103 комсомольца. В последующем в писательской организации число партийцев росло неуклонно. Если на первом съезде они составляли 52,8 процента от делегатов, то на втором – 72,5 процента[25];
К своему второму съезду (1954 год) Союз советских писателей насчитывал 3695 человек (3142 члена и 553 кандидата);
Подавляющее число членов ССП составляли мужчины. Доля женщин выросла от 3,6 до 10 процентов (ко второму съезду писателей)[26].
В. А. Антипина справедливо отмечает, что «спустя 20 лет I съезд стали рассматривать как эталон при подготовке второго писательского форума», причем бытовавшие в писательской среде сравнения оказывались не в пользу последнего. В частности, главный докладчик Второго съезда Сурков мог претендовать лишь на ироническое сближение с М. Горьким, выступавшим в той же роли в 1934 году[27].
Пониманию политик съезда, безусловно, способствуют работы систематико-хроникального характера – в первую очередь подготовленная С. И. Чуприниным еще в 1989 году публикация «Оттепель: хроника важнейших событий 1953–1956 годов»[28], в 2020 году вышедшая вторым, существенно расширенным, изданием[29]. Что касается собственно исследований и интерпретаций, в том же 1989 году тема съезда прозвучала в обобщающей монографии Р. Г. Суни «Советский эксперимент». Отведя на фоне разговора о хрущевской оттепели всего несколько строк самому съезду, Суни выделил в качестве его достижения борьбу с бесконфликтностью[30].
Дж. и К. Гаррарды в книге «Внутри Союза советских писателей» (1990)[31] фокусируются большей частью на выступлениях оппозиционно настроенных литераторов, а кроме того, указывают на соотношение между участниками форумов 1934 и 1954 годов, которое демонстрирует, насколько эта профессия была опасна: только 123 из приблизительно 600 делегатов Первого съезда выжили, получив возможность побывать на Втором, причем война в данном случае являлась, по оценке авторов, далеко не главной причиной смерти[32].
На событиях Второго съезда и его предыстории сравнительно подробно останавливается В. Эггелинг в монографии «Политика и культура при Хрущеве и Брежневе» (1999). Эггелинг выделяет важнейшие из дебатировавшихся на нем тем: итоги развития советской литературы за двадцать лет после Первого съезда писателей, недостатки современной советской литературы, литературная критика и литературоведение, организация союза писателей[33]. Согласно его точке зрения, съезд
воспроизводил ‹…› модель ограниченного плюрализма, включавшую критику определенных явлений литературной и административной практики прошлого, приметы которых обнаруживались и в рассматриваемый период[34].
М. Р. Зезина в книге «Советская художественная интеллигенция и власть в 1950–60-е годы» (1999), описав институциональные неблагополучия в Союзе писателей, особенно обострившиеся к осени 1952 года[35], высказала мнение, что «Второй съезд советских писателей, собравшийся после двадцатилетнего перерыва в декабре 1954 года, не стал событием в литературной жизни страны».[36]
Некоторые наблюдения, связанные с историей съезда, собраны в работе С. Г. Сизова «Интеллигенция и власть в советском обществе в 1946–1964 годах: на материалах Западной Сибири» (2001)[37]. Сизов, правда, пишет о том, что из обновленного на Втором съезде Устава ССП «было фактически изъято положение» «об обязательности метода социалистического реализма»[38], восстановленное лишь через пять лет на Третьем съезде. В действительности же в обоих случаях дело обошлось, как представляется, лишь некоторой переформулировкой этого тезиса[39].
К. Левенштайн в статье «Идеология и ритуал: как сталинские ритуалы формировали „оттепель“» (2007) описал взаимоотношения между литераторами и партийным руководством накануне съезда в координатах вышедшего из-под контроля политического ритуала, который в результате приобрел подрывной для системы характер и очень скоро был вновь подчинен жесткому регулированию[40].
Изложению съездовской полемики в связи с проблемой трансформации социалистического реализма отводит несколько страниц К. Б. Соколов в монографии «Художественная культура и власть в постсталинской России: союз и борьба» (2007)[41]. С точки зрения Соколова, совпадающей в этом отношении с позицией Эггелинга, конгресс писателей продемонстрировал «модель ограниченного плюрализма», но серьезно на коррекцию культурной политики не повлиял[42]. Вторая часть «формулы», впрочем, невольно провоцирует вопрос, а не явился ли сам съезд следствием такой коррекции[43].
Из немногочисленной литературы о писательском форуме следует выделить специально посвященную ему статью С. И. Кормилова «Второй съезд советских писателей как преддверие „оттепели“» 2010 года[44]. Справедливо сетуя на его недооцененность и говоря о его значении, Кормилов противопоставляет в этом отношении Первый и Второй съезды всем последующим литераторским собраниям союзного уровня и, рассмотрев основные положения ряда прозвучавших на нем выступлений, приходит к выводу о том, что,
несмотря на сильное влияние еще не развеявшейся атмосферы времен «культа личности», съезд получил во многом антилакировочную и антипроработочную направленность[45].
Стоит, правда, сразу отметить, что упомянутые «антилакировочная» и «антипроработочная» тенденции не были инновацией общесоюзной встречи литераторов 1954 года. А раз так, невольно возникает искушение переформулировать название статьи в форме вопроса: а был ли на самом деле Второй съезд преддверием оттепели, то есть был ли он хотя бы в какой-то степени «либеральным» явлением?
Предсъездовскую атмосферу емко реконструирует М. Н. Золотоносов в книге «Гадюшник. Ленинградская писательская организация: Избранные стенограммы с комментариями» (2013), хотя его исследование в целом посвящено другим проблемам[46]. В своей характеристике съезда, серьезно отличающейся по модальности от осторожно оптимистической позиции Кормилова, Золотоносов устанавливает преемственность между дискурсом, доминировавшим на писательском собрании 1954 года, и «ждановским текстом» 1946 года[47].
Притом что съезд не ускользает от внимания авторов новых историй советской литературы и критики, этот жанр исследований по понятным причинам ограничивается лишь скупыми оценками проявившихся на нем тенденций. К дискуссионной ситуации накануне съезда обращаются Е. А. Добренко и И. А. Калинин в соответствующей главе «Истории русской литературной критики» (2011)[48]. Рассматривая ее в терминах «атака» – «контратака», Добренко и Калинин пишут о весьма ощутимой «нейтрализации критического пафоса», присущего «оттепельным» выступлениям по поводу искусства, накануне Второго съезда[49]. А В. В. Петелин в «Истории русской литературы второй половины XX века» (2013), останавливаясь на предшествующей этому событию активности писательской и политической верхушек, концентрируется на съездовских дебатах о «лакировочной» литературе и на существенном в рамках персональных «политик выживания» противостоянии между М. А. Шолоховым и Ф. В. Гладковым[50].
Как показывает даже беглый обзор, оценки значения Второго Всесоюзного съезда писателей варьируются от признания его мероприятием маловлиятельным (и уж точно многократно уступающим по своей важности первому всесоюзному форуму советских литераторов) до закрепления за ним статуса вполне различимой на общем фоне публичной инициативы, от упреков скептиков, видящих в нем только казенщину, до более оптимистических суждений о писательском собрании 1954 года как о преддверии оттепели.
Глава 2
Вождь умер. Да здравствует писатель?
(Перед Вторым съездом ССП)
Советская литература после 5 марта
После смерти И. В. Сталина 5 марта 1953 года обезглавленная советская верхушка оказалась перед стратегическим выбором, ответственность за который впервые за долгое время нужно было взять на себя. Переведенная в «режим ожидания» общественность внимала заверениям о том, что «бессмертное имя» вождя «всегда будет жить в сердцах всего советского народа», и призывам еще теснее «сплотиться вокруг коммунистической партии»[51], но прикрываемую скорбными лозунгами паузу рано или поздно предстояло заполнить чем-то более прагматичным. Отсутствие единовластного диктатора волей-неволей заставляло думать над тем, как сохранить или как модифицировать начерченную им генеральную линию.
По-настоящему авторитетные политические декларации о «потеплении», как известно, прозвучали не сразу. Хотя пробуксовка хорошо отлаженных механизмов контроля и репрессий почувствовалась буквально в течение нескольких недель, все, что происходило на публичной сцене в «транзитивный период» – от похорон Сталина до XX съезда, – было подчинено сильнейшей идеологической инерции и нежеланию говорить о недавнем прошлом. Уже 26 марта Л. П. Берия подал секретную записку Г. М. Маленкову о бессмысленности содержания «большого количества заключенных в лагерях, тюрьмах и колониях, среди которых имеется значительная часть осужденных за преступления, не представляющие серьезной опасности для общества»[52], однако эта «гуманизация» пенитенциарных практик не сопровождалась открытым и четко артикулированным осуждением государственного террора как системы. Период неопределенности формально длился почти три года, до 25 февраля 1956 года – до того дня, когда H. С. Хрущев на XX съезде Коммунистической партии выступил с докладом «О культе личности и его последствиях». Поскольку разоблачение состоялось на закрытом заседании, даже спустя три года осуждение сталинизма прозвучало не совсем гласно.
Половинчатый и всячески камуфлируемый отказ от тоталитарной политики вызвал к жизни полный неопределенностей способ говорения и письма, который утвердился в СССР надолго. Он решал как задачу отмены уже сложившихся принципов легитимации советского режима, так и задачу его оправдания на подновленных основаниях без казавшихся еще недавно неизбежными апелляций к авторитету Сталина.
Чтобы представить себе темп происходивших с советскими писателями в этой связи перемен, достаточно сравнить два декабрьских номера «Литературной газеты», выпущенных с дистанцией в один год. Последний номер «Литературки» за 1952 год содержал крайне показательную подборку вдохновенных стихов, героем которых являлся Сталин. Расположенные слева от заголовка – под названием «Нашей партии» за авторством К. Я. Ваншенкина – завершались словами: «Да будет бессмертно твое знамя! / Да будут бессмертны твои дела!». Расположенные справа, принадлежащие А. Мамашвили и озаглавленные «Теплоход „Иосиф Сталин“» (перевод А. П. Межирова), представляли своего рода эмблематическую картографию СССР:
Над Волго-Доном ветер веет влагой(Всей грудью тороплюсь его вдохнуть!),И по каналу ЛенинаПод флагомКорабль «Иосиф Сталин» держит путь.И пять морей, работая согласно,Его винтами двигают, бурля,И коммунизма берегВиден ясноСедому капитану корабля.Вдоль юных рощ и молодых полей,Победный путь свершая величаво,Идут за нимШестнадцать кораблей –Могучая советская держава.Ниже на той же странице помещались стихотворение М. Ф. Рыльского «Родному народу» в переводе А. Якушева, где декларировалось: «В нас – вера в Партию и к Сталину любовь»; стихотворение А. Жукаускаса «Маяк коммунизма» в переводе Л. А. Озерова, в котором прославлялось неустанное подвижничество кормчего: «Темнеют ели у Кремля. / Стихает шум столицы ‹…› / Приходит ночь. А у него рабочий день все длится»; поэтическое послание А. Усенбаева «Солнце народов» (пер. В. В. Державина): «Сталин – солнце народов ты, / Озаряющее весь мир. / О тебе – и лучшая песнь, / Облетающая весь мир»[53].
Когда в следующем последнем декабрьском выпуске газеты писатели В. М. Бахметьев, А. А. Бек, Р. Г. Гамзатов, В. В. Иванов, А. Б. Ваковский и другие делились своими планами на ближайшее будущее, среди их замыслов можно было найти все что угодно, кроме актуальной еще недавно панегирической патетики в адрес диктатора. Типичным, напротив, выглядело такое признание писателя С. М. Муканова:
Над чем буду работать в 1954 году? Задумал роман о животноводах. Произведений на эту тему мало, а необходимость в них, как мне кажется, особенно остро ощущается после сентябрьского Пленума ЦК КПСС[54].
На упомянутом Мукановым пленуме 1953 года избранный первым секретарем ЦК КПСС Хрущев объявил о новом сельскохозяйственном курсе.
Имя Сталина и его тело еще не были устранены из публичного пространства совершенно – о чем можно судить по выступлениям на Втором съезде писателей тоже. Но как маркеры советской идентичности они все же постепенно отходили на второй план.
На фоне не слишком афишируемой десталинизации происходили сдвиги, с которыми в первую очередь собственно и связывается понятие «оттепель». Как отмечал И. Н. Голомшток в книге «Тоталитарное искусство», уже
в первом же после смерти Сталина номере журнала «Архитектура СССР» (март 1953 г.) появляется критика сталинской архитектуры, которая при Хрущеве выливается в так называемую «широкую кампанию борьбы с архитектурными излишествами»[55].
Если же вспоминать о событиях, чей резонанс непосредственно отразился в коллизиях состоявшегося вскоре писательского съезда[56], первым должен быть, вероятно, назван скандал, связанный выходом романа В. С. Гроссмана «За правое дело», который был напечатан в «Новом мире» А. Т. Твардовского еще в 1952 году (№№ 7–10).
Роман получил одобрение сверху, более того, он был выдвинут на Сталинскую премию, однако уже в середине января 1953 года на фоне кампании по разоблачению так называемого заговора врачей и текст, и автор попали в немилость[57]. «Высочайшее» недовольство нашло выражение в статье М. С. Бубеннова, которая появилась в «Правде» в феврале того же года[58], а затем, в конце марта, – в постановлении президиума Союза советских писателей СССР «О романе В. Гроссмана „За правое дело“ и о работе редакции журнала „Новый мир“» от 24 марта 1953 года[59]. Эта интрига стала одним из болезненных предметов дискуссий во время съездовской кампании наряду с действительно (то есть в данном случае спровоцированными непосредственно смертью Сталина) «оттепельными» литературными и общекультурными событиями.
Обычно к «оттепельной» литературе причисляют серию очерков В. В. Овечкина «Районные будни». Однако стоит, наверное, учитывать, что первый из них, как и роман Гроссмана, тоже появился еще до 5 марта 1953 года. Очерк «Борзов и Мартынов» вышел в 1952 году под заголовком «Районные будни», дав, таким образом, название всему циклу[60]. В июле 1953 года появился очерк «На переднем крае»[61]
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Сноски
1
Второй Всесоюзный съезд советских писателей: идеология исторического перехода и трансформация советской литературы. 1954 / Отв. ред. В. Ю. Вьюгин; сост. К. А. Богданов, В. Ю. Вьюгин. СПб.: Алетейя, 2018.
Пользуясь случаем, хочу еще раз выразить искреннюю признательность К. А. Богданову, Л. Д. Бугаевой, Е. А. Добренко, Н. В. Корниенко, А. А. Панченко и Н. В. Семеновой, без которых эта работа вряд ли была бы завершена. Благодарю своих соавторов по текстологическому разделу – М. Н. Нечаеву и Е. А. Роженцеву, а также коллег К. Келли и И. Е. Лощилова, которые любезно согласились прочитать книгу перед ее выходом.