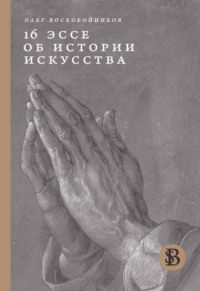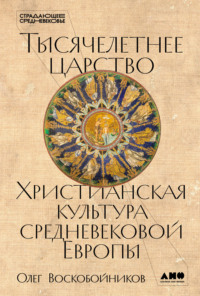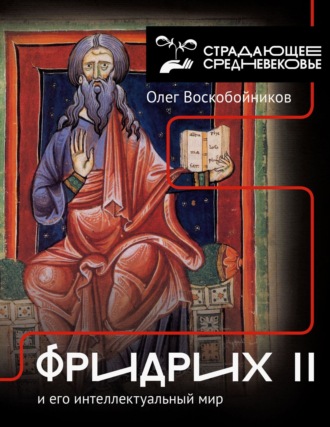
Полная версия
Фридрих II и его интеллектуальный мир
Однако вернемся в Неаполь. Обратим внимание на еще одну фразу из учредительной хартии: «Мы знаем, что многие из тех, кого низкое происхождение сделало недостойными чести и славы, достигли высот вооруженные свободными искусствами»[85]. Само по себе такое утверждение достоинства знаний не было новым. Однако следует учитывать, что здесь она звучит совершенно особенно. Кроме того, Habita Барбароссы еще приглашали в университет всех, кто готовы были «в поисках знаний отправиться в чужие земли и сменить богатство на бедность». Принципиальная смена культурного климата налицо. Идеал интеллектуала-космополита, «гражданина мира», не отягощенного земными благами, конечно, никогда не покидал воображение людей зрелого Средневековья. Но все же в подобных фразах четко ощущается, как пробивали себе дорогу новые представления о социальной роли знаний. Университеты постепенно превращались в третью власть[86].
История Неаполитанского университета в первые десятилетия его существования непосредственно связана с победами и поражениями императора. Уже в 1229 году studium был закрыт из-за вторжения войск Григория IX: отлученный от церкви император находился тогда в Святой земле. В 1234 году Фридрих II пригласил богословов, магистров свободных искусств и профессоров гражданского и канонического права во вновь открытый университет[87]. Дата неслучайная, поскольку именно тогда Григорий IX издал Liber extra, свод декреталий, ставший вехой в развитии канонистики и утверждении влияния Римской кафедры. Для их изучения и комментирования Фридрих II пригласил Бартоломео Пиньятелли из Бриндизи[88]. В те же годы в Неаполе начали преподавать пришедшие около 1230 года францисканцы, скорее всего, в собственном конвенте, не в университете, но развернуться смогли лишь при Анжуйцах, в 1280–1300 годах[89].
Повторное отлучение императора, постоянный вооруженный конфликт с коммунами и безнадежность в отношениях с папством в конце 1230-х годов привели к очередным пертурбациям в жизни университета. Закрытый ненадолго в 1239 году, он вновь открыл свои двери по просьбам студентов и магистров, но в нем уже не могли учиться выходцы из городов, поддерживавших папу, независимо от их личных взглядов[90].
После смерти Фридриха II в 1250 году многие крупные города королевства, в частности Неаполь и Капуя (тоже важный центр образования), подчинились власти папы Иннокентия IV, стремившегося, как и его наследники, искоренить власть Штауфенов в Италии. В 1252 году сын Фридриха II Конрад IV, вернувшись из Германии в Италию, вынужден был перевести университет из Неаполя в Салерно[91]. В 1258 году удача повернулась лицом к Штауфенам: после длительной борьбы против непокорных южноитальянских баронов Манфред привел к повиновению Неаполь и вновь открыл университет[92].
Все говорит о том, что ни о какой спокойной, свободной работе в университете, о которой заманчиво и торжественно говорили императорские дипломы, речи быть не могло. Вряд ли постоянным было число факультетов или хотя бы предметов. Само слово «факультет» (facultas) приобрело значение административной единицы, ответственной за преподавание определенной дисциплины, несколько позднее, в середине XIII века[93]. Некоторые сведения о деятельности отдельных преподавателей все же помогают составить представление об интеллектуальной атмосфере, царившей тогда в Неаполе[94].
Одним из создателей университета был уже упоминавшийся Роффредо из Беневенто. Он учился в Болонье у Аццо и Уголино. Свою карьеру он начал в качестве практикующего юриста в коммуне, потом преподавал гражданское право в Болонье и Ареццо. Его университетские курсы, «Субботние дискуссии» (Questiones sabbatinae) и «Судебный порядок» (De ordine judiciario), пестрят изящными литературными оборотами, стихами, которые несомненно привлекали к нему студентов. Такое литературное мастерство в сочетании с профессионализмом юриста должно было импонировать и вкусу к высокой риторике и литературным упражнениям латинистов Великой курии. Роффредо был верен императору в 1220-х годах, но начиная с 1230 года мы находим его на службе Римской курии, где он, возможно, продолжил преподавание[95]. Отъезд Роффредо был большой потерей: Петр Винейский, к тому времени очень влиятельный нотарий и талантливый стилист, с грустью умолял друга вернуться ко двору[96]. Скорее всего, престарелому юристу возраст и авторитет гарантировали покой и волю в его родном Беневенто, где он с 1222 года числился городским судьей и выращивал виноград.
Наряду с правом большое значение в жизни королевства имела ars dictaminis. Это понятие можно передать как «искусство диктовки», т. е. искусство написания латинских писем (поскольку письма сначала диктовались, а потом записывались). В культуре Южной Италии, не только светской и придворной, такая эпистолография равнялась, по сути дела, изящной словесности. Официальные послания Великой курии, расходившиеся по всей Европе, славились отточенностью формы. Ей стремились подражать. Многие из этих дипломов вошли в 1260-х годах в «Письмовник Петра Винейского», ставший своего рода образцовым учебником ars dictaminis на протяжении всего позднего Средневековья, о чем свидетельствуют более сотни рукописей и раннепечатные издания. В него вошли как официальные, так и частные письма придворных. Особым изяществом отличался стиль самого Петра Винейского и представителей семейства де Рокка[97]. Этот расцвет латинской эпистолографии при дворе Фридриха II произошел в эпоху, когда в других странах искусство частного письма переживало не лучший период своей истории, изрядно растратив творческий заряд, данный возрождением XII века[98].
Несомненно, культ красивой, утонченной латыни и риторической изобретательности при дворе Фридриха II был проявлением идеологии политического возрождения Империи, renovatio. В этом он типологически родственен культурному возрождению при дворе Каролингов. Для воплощения в жизнь этих вкусов нужны были профессионалы соответствующего уровня. Как и в других дисциплинах, в преподавании латыни лидировали школы Северной Италии. Однако юг составил им серьезную конкуренцию. Особая роль здесь принадлежала области Кампания, в особенности ее северным землям, граничившим с Папской областью: Терра ди Лаворо (буквально «Трудовая земля»). Здесь, в Монтекассино, главном аббатстве бенедиктинского ордена, Альберик Монтекассинский во второй половине XI века написал первый «Краткий учебник по искусству письма»[99]. Капуя, Салерно и Неаполь подхватили эстафету. В первой половине XIII века один из капуанских риторов-письмоводителей по имени Фома (Томмазо) сделал блестящую карьеру в Римской курии, прослужив кардиналом больше 30 лет, при трех папах, от Гонория III до Иннокентия IV. Он писал письма от лица понтификов, их потом собрали в «сумму», а искусство свое изложил в учебнике, очередном ars dictaminis, которым пользовались потом поколения европейских придворных стилистов.
Язык высокой риторики стал языком власти, причем не только имперской, не только папской, не только королевской. На этой специфической, витиеватой латыни писались и «Мельфийские конституции», и антипапские памфлеты, и дружеские послания придворных нотариев. Но важно и то, что риторы кампанской выучки обычно поддерживали друг друга, в том числе поверх политических границ. Эти контакты обеспечивали живучесть словесности и тем общекультурным ценностям, которые эта словесность выражала[100].
В Неаполе мы встречаем магистра Гвалтьеро из А́сколи. Его деятельность пока плохо изучена. В 1220-е годы он преподавал в Болонье, там он начал писать этимологический трактат, «Сумму этимологий», Liber derivationum. Где-то после 1229 года он закончил его в Неаполе[101]. Это произведение следует рассматривать в традиции «Этимологий» Исидора Севильского (VII в.), но особенно заметна связь с более современным ему памятником, имевшим большое значение в преподавании грамматики в XIII веке: «Большими этимологиями» (Magnae derivationes) Угуччо Пизанского, использовавшимся в университетских кругах Северной Италии в начале столетия[102].
Наследник латинской культуры XII века, свод Гвалтьеро стал связующим звеном между культурами Севера и Юга Италии. Как и другие средневековые этимологии, это произведение имеет не много общего с привычными для нас этимологическими словарями: слишком отличным было само отношение к природе слова. «Сумма» состоит из 820 лемм. Мы найдем большое количество глаголов, несколько греческих слов, начинающихся с приставки dia, отдельные еврейские слова. Все они, впрочем, не свидетельствуют о каких-либо серьезных познаниях в греческом или еврейском языках. Слова сгруппированы в своего рода смысловые «созвездия», с ключевой ролью глаголов, постулируемой уже во введении[103]. Они не воспринимались по отдельности, атомарно, как сегодня. Этимологии слов, выглядящие совершенно фантастическими с точки зрения сегодняшней лингвистики, отражают глубинные принципы средневековой логики, заметные уже у Исидора, принципы, соединяющие слово и вещь. Между формой и значением слова должна была существовать неразрывная связь. Именно поэтому средневековый ученый видел общий корень, скажем, в словах clericus (клирик) и legere (читать), ведь именно клирик умеет читать[104].
В «Письмовнике Петра Винейского» до нас дошло письмо Николая де Рокка, в котором он просит у своего покровителя Петра Винейского разрешения прочитать в Неаполе курс лекций по ars dictaminis. Для этого необходимо было согласие университетских профессоров, и мы не знаем, смог ли один из лучших стилистов Великой курии поделиться своим искусством со студентами[105]. Вполне возможно, что грамматику и риторику в Неаполе преподавал Терризио из Атины. Его перу принадлежит серия небольших сатирических сочинений. В форме прозаических посланий около 1240 года он описал не всегда приглядные (но типичные и веселые) стороны студенческой жизни: по случаю карнавала просит себе подарков; блудницы пишут профессуре на предмет разделения их общих прав на студентов, на что профессура отвечает отповедью[106]. Одно стихотворение, обращенное к государю, он посвятил описанию жизни двора, особый акцент делая на несправедливости судей[107].
В Неаполе преподавались и науки о природе, scientia naturalis. Магистр Петр Ирландский (Petrus de Hibernia) упоминается в качестве одного из учителей Фомы Аквинского, пожалуй, самого известного выпускника этого университета[108]. После смерти Фридриха II он был связан с двором Манфреда, о чем свидетельствует запись его диспута с королем по вопросам о причинно-следственных связях в природе. К этому диспуту мы еще вернемся, поскольку он связан с историей «Книги об искусстве соколиной охоты». Петр Ирландский вел свои занятия в форме традиционного комментирования авторитетных текстов, сочетая «чтение» (lectio) и «обсуждение» (quaestio). Его интересовали аристотелевские сочинения «Об истолковании», «О долготе и краткости жизни», «О смерти и жизни», «Исагог» Порфирия. В его комментариях аристотелизм звучал так же полнозвучно, как в среде преподавателей факультета свободных искусств Парижского университета. Несомненно, это новое глубокое восприятие аристотелевской натурфилософии стало возможным в Южной Италии благодаря переводам комментариев Аверроэса, выполненным Михаилом Скотом, а также доступности наследия толедских переводчиков Доминика Гундисальви (Гундиссалина) и Герарда Кремонского. Общение с Петром Ирландским объясняет, например, тот факт, что Фома Аквинский был хорошо знаком с аверроистскими доктринами. Более того, как считает Мартин Грабманн, его собственная философия, во многом нацеленная на опровержение аверроизма, оказалась парадоксальным образом ближе к нему, чем, скажем, учение его старшего современника Альберта Великого[109].
Один авторитетный историк научной мысли XIII века окрестил Неаполитанский университет «колыбелью аверроизма»[110]. У этого смелого утверждения есть основания, однако остается неясным, был ли он действительно «колыбелью», местом зарождения, или он получил его извне, прямым или косвенным путем. Комментарии Петра Ирландского, в частности «О смерти, жизни и причинах длительности и краткости» (De morte et vita et de causis longitudinis et brevitatis), свидетельствуют о глубоком проникновении в мысль Аверроэса, что было в то время одной из насущных задач большинства тех, кто интересовался науками о природе. Однако были ли они написаны в правление Фридриха II или, что представляется более вероятным, вскоре после 1250 года? В рецепции Аверроэса вопрос одного десятилетия может быть принципиальным для оценки новаторства и интеллектуальной смелости того или иного мыслителя. Мы не знаем также, читал ли Петр свои комментарии с университетской кафедры в то время, когда такое чтение еще находилось под формальным папским запретом[111].
Кроме двух версий De longitudine et brevitate vitae из малых физических сочинений Аристотеля (Parva naturalia), переведенных в XII веке Иосифом Венецианским и в XIII веке Вильгельмом из Мёрбеке, другом Фомы Аквинского, был распространен компендиум Аверроэса на ту же тему (De causis longitudinis et brevitatis vitae). Перевод его приписывался Михаилу Скоту. Влияние Аверроэса на восприятие «темного» и «сложного» Аристотеля было велико, что очевидно в случае Петра Ирландского. Слова Аверроэса легко смешивались с терминами Аристотеля, зачастую просто подменяя их[112]. Этот выходец из Ирландии был, конечно, не единственным, кто интересовался Аристотелем, облаченным в комментарии Аверроэса.
В одном письме Терризио из Атины соболезнует своим университетским коллегам в кончине магистра Арнальда Каталонского, преподававшего scientia naturalis. Оно начинается с приветствия коллегам, столь же странного для печальной ситуации, сколь и эмблематичного, почти афористического: он желает им «знать не больше положенного», non plus sapere quam oportet. Смерть магистра, уверяет нас автор, привела к затмению светил, которые он изучал, беспорядку в стихиях и возмущению всей природы, о которой он писал. Природа, которую столь хорошо постиг магистр Арнальд, оказала ему плохую услугу, не защитив своего «автора (слово auctor, конечно, многозначно), который посвятил ей свою душу». Он умер, читая лекцию о душе, «и не смог хоть на минуту задержать собственную душу, которая по крайней мере должна была бы возвестить ему час своего ухода»[113].
Перед нами традиционный жест коллегиального сочувствия, бывший обязательной составляющей университетского стиля общения, упражнение в риторике, балансирующее на грани сострадания и легкой, едва заметной насмешки над наукой, преподаваемой в соседнем помещении, почти что спор «физиков» и «лириков». Для такого отношения к новшествам натурфилософии традиционным интеллектуальным подспорьем моралистам служило «презрение к миру», contemptus mundi, детально разработанное еще в XI веке такими крупными мыслителями, как Петр Дамиани и Иоанн Феканский, а в конце XII века обновленное не менее влиятельными и яркими умами: Аланом Лилльским и кардиналом Лотарио де Сеньи, будущим Иннокентием III[114]. Мы еще увидим, как такое презрение к миру, сомнение в ценности научного познания могло сочетаться под пером одного и того же мыслителя с неподдельным творческим оптимизмом и уверенностью в значимости своего дела.
Письмо Терризио, в своей риторической витиеватости, отражает атмосферу, видимо, царившую в университете: тот, кто изучает «смешения» элементов, становится как бы адептом природы, ее слугой душою и телом, изучая звезды, он по определению становится и «звездочетом», получает способность ясновидения. Если же он рассуждает о душе, одном из высоких предметов в изучении природы, душа как бы «обязана» подчиняться тому, кто ее изучает, должна оказывать ему услуги, словно вассал своему сеньору. Почему не предположить, что не известный нам по другим источникам каталонский магистр во время своей последней лекции комментировал «О душе» Аристотеля, переведенной наряду с Большим комментарием Аверроэса Михаилом Скотом? В сознании современников и, наверное, слушателей, такой преподаватель, которому было доступно новое знание о мире, приобретал новую власть над собственной душой и над миром, который вдруг начинает разрушаться в момент его неожиданной смерти. Письмо Терризио, несмотря на одновременно хвалебный и элегический тон, является по сути реакцией «гуманиста», «филолога» против суетности «физика», который, несмотря на все свои познания, не способен избежать уготованной всем смертным грустной доли. Мы видим здесь хороший образец эпистолографии, который в лаконичных фразах отразил несколько смысловых пластов.
В 1239 году Неаполитанский университет оказался лишенным преподавателей богословия: многие доминиканцы, францисканцы и бенедиктинцы были изгнаны из королевства из-за подозрения, лишь отчасти обоснованного, в шпионстве в пользу Римской курии. В ноябре 1240 года студенты и преподаватели университета написали профессору богословия бенедиктинцу Эразму Монтекассинскому: «Мы были лишены источника живой воды, когда братья [проповедники] покинули Неаполь и не осталось никого, кто бы открыл нам мистический смысл Писания. Нам отказано в науке наук, прекрасном подспорье для тела и спасительном прави́ле для души. Отсутствие богословского факультета тем более пагубно для нашего университета, что достоинство богословия среди других наук особенно высоко»[115]. Значит ли это письмо, что богословие, для того времени и впрямь наука наук, представляло собой что-то серьезное в Неаполитанском университете? Сомнительно. Право же выдавать соответствующие дипломы вообще оставалось тогда привилегией Парижа и Оксфорда. Даже Болонья получила папскую привилегию на богословский факультет лишь в 1360 году.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Petrus de Ebulo 1994. Part.VIII–IX. Fol. 102v–103v. Tramontana 1999. P. 129–133.
2
Воскобойников 2015. С. 453–472.
3
Idrîsî. 1999. P. 57ss.
4
Абрамсон 1994. С. 3–16. Воскобойников 2011. С. 271–279.
5
Marongiù 1963. Р. 379–394.
6
На русском языке можно назвать только две книги. Это плохо переведенная и не слишком примечательная в оригинале биография Фридриха II: Глогер 2003. Намного важнее книга Эрнста Канторовича, написанная в конце 1920-х годов. К сожалению, мне недоступен ее недавний русский перевод Л.В. Ланника и И.П. Стребловой: Канторович 2022.
7
Cavallo 1982. P. 495–612; Canart 1978. Р. 105–162.
8
Michel Scot 2018.
9
Ницше 1990. T. II. С. 318, 690, 747.
10
Kampers 1927.
11
Petrus de Ebulo 1994. Versus 1387–1388.
12
Schaller 1995. S. 495–496.
13
Thiery 1994. P. 287–290. Более взвешенный взгляд Джереми Джонса см. в коллективном труде, вышедшем после масштабной реставрации начала 2000-х годов: La Cappella Palatina 2010. P. 387–400.
14
Pseudo Ugo Falcando 2014. P. 344–345.
15
Geis 2014. S. 187, 290.
16
Салимбене де Адам 2004. С. 381.
17
Federico II di Svevia 2001. P. 6–7, 21–22, 40. О спорных атрибуциях см.: Ibid. XVIII–XX.
18
De Stefano 1950. Р. 16–17. Более скептический взгляд: Powell 1963. Р. 481–482.
19
Houben 1996. P. 213–242.
20
Nicolaus de Jamsilla 1868. P. 106. Pispisa 1994. P. 145–170.
21
Hampe 1901. S. 597.
22
Delle Donne 2005. P. 56.
23
«Moribus tamen alienis atque ineptis, quibus eum non natura, sed conversatio rudis instituit. Sed indoles regia, sua natura facilis in meliora componi, quicquid ineptum acceperit, paulatim usu meliore transmutet. Hiis adiacet, quod monitoris inpaciens, libere voluntatis capescit arbitrium et, quantum videri potest, deforme sibi existimat vel tutore regi vel puerum pro rege censeri, quo fit, ut excusso tutoris regimine plerumque regios excedat indulta licencia mores et usu publice conversacionis maiestatis minuat vaga discussio numen». Hampe 1901. S. 597. В этом же письме упоминается в качестве преподавателя некто Вильгельм Францизий (Francisius), у которого Фридрих II учился, судя по всему, латинскому языку. Больше ничего об этом Францизии не известно.
24
Ibid. S. 598.
25
HD. V/2. Р. 721–722. «Книга Паламида» была написана на латыни в 1215–1235 годах. О распространении куртуазной литературы в Италии: Bertoni [1924]. Р. 2 ss. Antonelli 1995. Р. 319–345; Orofino 19951. P. 199–210.
26
Gauthier 1982. P. 323–324 (текст Манфреда). Mütherich 1974. S. 9–22. Haskins 1929. Р. 124–147.
27
Райт 1988. С. 53–54, 110–111.
28
Settis-Frugoni 1973. P. 5ss.
29
Leipzig, Universitätsbibliothek Rep. II 143. «Alexandri nobilissimi atque sapientissimi regis Macedonie liber». Das Buch von Alexander 1991. Orofino 19952. P. 401.
30
Немного более ранняя итальянская рукопись из Национальной библиотеки Франции (BNF nouv. acq. lat. 174) содержит лишь четыре миниатюры, хотя оставлено место еще для четырнадцати. Фр. Авриль и М.-Т. Гуссе склонны были датировать ее XII веком без определенной локализации (Avril, Gousset 1980. P. 83–84), Б. Дегенхарт и А. Шмитт – первой половиной XIII века и сближать с иллюстрированными кодексами, вышедшими из придворных скрипториев Фридриха II. Degenhart, Schmitt 1980. S. 254.
31
Ross 1963. P. 53. Cavallo 1982. P. 559–560.
32
Weitzmann 1970. Р. 70ff.
33
Салимбене 2004. С. 104–105.
34
Lewis 1987. P. 212–215.
35
Cambridge. Corpus Christi College. Ms. 16. Fol. 151v. Lewis 1987. Р. 281–282; Flores 1993. Р. 38.
36
«Erat autem ibi mons excelsus valde in quem ascendet Alexander. Et visum est ei quasi esset in celo. Statimque cogitavit instruere talem ingenium cum quo possent eum griphes sublevare in celum, ut videret quid esset in celo. Mox autem descendit de ipso monte et iussit venire architectonicos et preceperit eis facere currum et circumdaret eum cancellis ferreis ut posset absque metu sedere. Postea fecit venire griphes et cum catenis ferreis fecit ligari eos ad ipsum currum et in sumitate ipsius curri poni fecit cibaria… Igitur tanta altitudine ascenderunt ipse griphes, quod videbatur Alexandro orbis terrae sicut area in quam tunduntur fruges. Mare vero videbatur tortuosum in circuitu orbis sicut draco. Tunc subito virtus divina obumbravit easdem griphes et dejecit eas ad terras in loco campestri longius ab exercitu suo. Nullamque lesionem substinuit in ipsis cancellis ferreis. Et sic cum magna angustia inventus est militibus suis. Videntes autem milites eius, exclamaverunt omnes una voce laudantes eum quasi deum». Leipzig, Universitätsbibliothek. Rep. II 143, fol.101r.
37
Settis-Frugoni 1973. Р. 121–147.
38
Грабар 2000. С. 241.
39
Settis-Frugoni 1973. P. 303ss.
40
Draghi 2007. Fig. 240.
41
Kantorowicz 1965. P. 264–283; Kloos 1982. S. 395–417. В обоих исследованиях лейпцигская рукопись не упоминается.
42
«Post hoc annum ascendit in corde suo ut perquireret profundum in mari. Quare iussit venire ante se vitrarios precepit eis continuo ut fecerint domum ex splendidissimo vitreo ut posset omnia clare conspicere a foris. Factumque est. Deinde iussit eum ligari cum catenis ferreis et teneri eum a fortissimis militibus. Et ille introivit in eum. Descendit in profundum maris, viditque ibi diversas figuras piscium ex diversis coloribus seu et belvas habentes ymagines bestiarum frenarum ambulantes per profundum maris cum pedibus sicut bestia per terram comedentes fructus arborum quae nascunt in profundo maris. Ipse alie belve veniebant usque ad eum. Viditque ibi et alias ammirabiles causas quas alicui dicere noluit pro eo quod fuerant hominibus incredibilia». Fol. 101v.