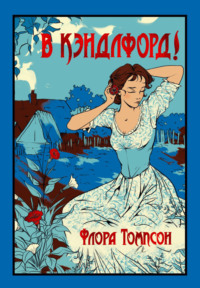Ларк-Райз

Полная версия
Ларк-Райз
Жанр: историческая литературасовременная зарубежная литературазарубежная классикалитература 20 векасерьезное чтениеоб истории серьезно
Язык: Русский
Год издания: 1939
Добавлена:
Серия «Старая добрая…»
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«Gentle Jesus» – популярный евангельский гимн богослова Чарльза Уэсли (1707–1788).
4
Быт. 16: 13.
5
Лярд (смалец) – вытопленное нутряное сало.
6
«Жаба в норе» (toad in the hole) – популярное английское блюдо: куски уже готового мяса, запеченные в тесте из нутряного сала.
7
Английский центнер равен 112 фунтам, или 50,8 кг.
8
Брэддон Мэри Элизабет (1837–1915) – популярная английская романистка Викторианской эпохи.
9
Стихотворение У. Вордсворта.
Конец ознакомительного фрагмента
Купить и скачать всю книгу