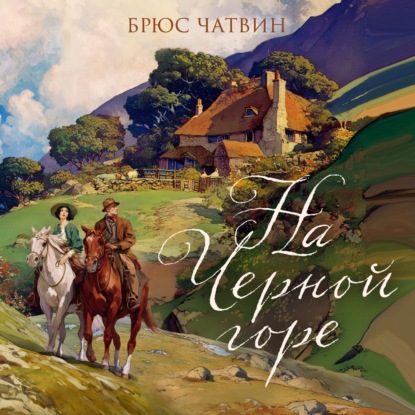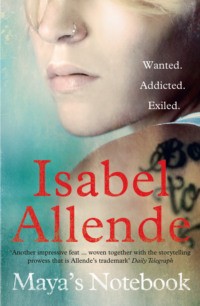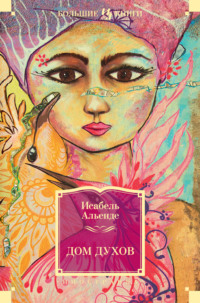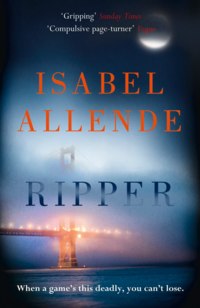Ева Луна. Истории Евы Луны

Полная версия
Ева Луна. Истории Евы Луны
Язык: Русский
Год издания: 2023
Добавлена:
Серия «Большой роман (Аттикус)»
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Конец ознакомительного фрагмента
Купить и скачать всю книгу