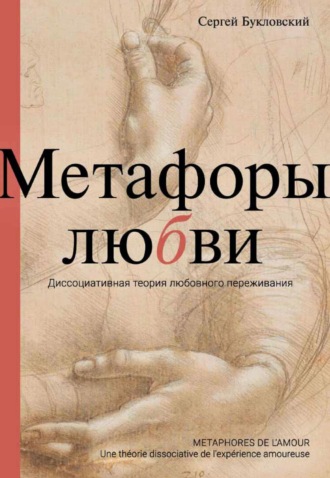
Полная версия
Метафоры любви. Диссоциативная теория любовного переживания
Любовный опыт не сводится только к тому, что субъект чувствует, и что зиждется на идеальных представлениях. Причина романтического переживания определяется этически с точки зрения заблуждения, как собственная категория, содержащая изменчивость и несовпадение представлений об устройстве отношений. Интенциональная причина переживания располагается на уровне компромисса между сильной страстью и режимом более глубокой, но преждевременной привязанности к объекту, содержание которого предстает в виде инсталлированной античной вазы, обрамляющей пустоту. Переживание инспирировано значением, значением внутреннего этического отношения и ничем кроме самого любовного переживания это отношение не определяется. Субъект, не понимающий, что ему должно делать, сталкивается с необходимостью оправдать свою нарциссически организованную любовь в глазах Другого, которая и так по определению не содержит изъяна. Любовное переживание принципиально частично: оно обеспечивает сцепление с конкретным субъектом (в котором репрезентируется весь социальный порядок), наделяя его этическим статусом, лишенным социальной гравитации. Причины любовного переживания не поддаются обобщению, поскольку та частичная забота, которую любящий проявляет о возлюбленном объекте, не распространяется на всех. Этика человечности возникает из ожиданий, которые любимый объект формирует, тем самым обязывая соответствовать этим ожиданиям. Само романтическое взаимодействие не определяет набор обязанностей (Wallace R. J., 2012, 176–183), во всяком случае не больше, чем в других видах отношений. Очевидная жесткость причин любовного переживания, предоставляемых Другим, проливает свет на логические структуры, связанные со свободой маневра и свободой выбора – принадлежностью любимого объекта и безусловной ценностью его свободы. Здесь свобода является внешней категорией по отношению к любовному опыту, заданному личной историей как историей нарциссического самостановления – чего стоит свобода других по сравнению с желанием быть рядом с любимым объектом. Доминанты, в которых превалируют значения этического порядка, не всегда обеспечивают лучший вариант любовного опыта. Субъект, порабощенный Идеалом любовного опыта, принимает его как жизнеспособное объяснение причин как этически благородных, так и этически сомнительных действий. Опыт для него – экзистенциальный анксиолитик, дающий иллюзорную осмысленность. Рост, лежащий в основе подлинного переживания любви, происходит непрерывно, поэтому ассоциируется скорее с умеренной романтической интенсивностью. Подобно сигнализации, срабатывающей при появлении незваного гостя, переживание сигнализирует о том, что отдельные изменения требуют активации внимания, ведь желание никогда не действует напрямую и субъекту предстоит себя в его действии, в калейдоскопе поочередно сменяющихся масок, распознать. Идеалом является отсутствие иерархии. Амбивалентные ценности, изобилующие романтическими возможностями, затрудняют принятие быстрых решений, которые перегружают отношения и способствуют принятию решительных мер без предрассудков традиционализма. Задействование диссоциативных механизмов в форме амбивалентных колебаний является несомненно сильным решением с точки зрения бессознательного. При этом сохраняется не дискриминирующий и не предающий чувственность порядок имеющих отношение к Идеалу приоритетов, минующий когнитивные предубеждения и без особого труда поддающийся строгой концептуализации.
В локальных контекстах получает развитие стигматизация разрыва в отношениях и денатурализированные способы их поддержания. Критически важным образом процессы глобализации открывают новые (неравноправные с точки зрения своего потенциала) возможности для любовного опыта (Constable, 2009). Сцена для отношений в тиши семейного очага больше не ограждает от драйва агрессивной глобализации правой модели капитализма и прокреативной этики сексуальности. Любовный опыт позволяет быть вместе и в политическом смысле, когда история пишется конкретным субъектом под влиянием солидарности. Любовь – исторически обусловленный исток в той причинности, которая служит обновлению Я и укоренению воли к жизни в условиях, например, определенного экологического отчаяния при климатических изменениях. Нарастающее напряжение любовного переживания не исчерпывается опытом, ведь субъекту надлежит отдать другому то, что предназначается ему самому. Поэтому смерть любимого зачастую воспринимается как освобождение (от опыта) и избавляет от выгорания или притупления чувств. Культурная общность обещает любовь, со всей палитрой глубинных мотивов, позволяющих рассматривать любовный опыт как нечто, что не должно зацикливаться на своей реализации в этом мире. Сущностного субстрата вне видимой общности между субъектами для любовного опыта нет; он чувствителен к истине, открываемой первой любовью в психоаналитическом смысле. В фундаментальном разладе с окружающим миром рождается искупительная любовь во имя разрушения культуры общины, основанной на ритуалах господства и подчинения. Любовь входит в противоречие с паутиной искусных манипуляций, противостоит формально закрытым структурам и приводит к необходимому ядру атомизации (фрагментации) социальной структуры. Романтическое любовное переживание стоит рассматривать как специфический ответ в регистре желания на проистекающие из самой структуры социального особого рода противоречия и напряженность, от которых субъект фрагментируясь пытается отрешиться через любовь как привязанность к другому! За массой неопределимого проглядывает основание для нередуцируемой далее реальности встречи двух говорящих существ.
На данном этапе развития психоанализа о способах атаковать отчетливо симптоматичным образом известно гораздо больше, чем об изрядно маскированных способах проявления безвременного любовного переживания и совместного заузливания на уровне тел. Избегание деструктивных импульсов обрамлено влечением смерти. Принцип диссоциированных бесконечных множеств де-факто применим ко всем классам психических явлений и в конечном счете именно бессознательное становление задает высокую этическую планку для субъекта. Тип отношения, установленный метафорой, являет более общий порядок связанных бессознательных множеств, чем это принято в процессе извлечения отношений между двумя элементами первичного порядка символической логики. То есть, метафора двоичного бытия субъекта имплицитно подразумевает извлечение более общих отношений из конкретного случая в его условных координатах (Hawkes, 1972). Необходима более точная разработка логического объяснения работы бессознательного, применительно к контрлогическим и парадоксальным аспектам любовного переживания, таких как вневременность, метонимическое смещение, неопределимость, конденсация, дрейф контекста, обратимая замена внешнего контура внутренней реальностью и имплицитное отсутствие взаимного противоречия.
В откровении любви, нанизываемом на нить внутреннего опыта, субъект безвозвратно приносит в жертву символически проработанную часть себя – фаллическую часть, которая проявлена как «набухание жизнью» и которая нигде не обнаруживает гарантированного значения. Настойчиво заявляющий о себе объект любви непосредственно участвует в поэтическом созидании, хотя субъекту и без того непросто выдерживать внутренний напор, натиск собственной страсти. Мучительная дезинтеграция, порожденная натиском на плотину влечений, снимается обращением к бесконечности, вневременности. Поэтический потенциал сознания, преодолевающий заграждающую субъекта рациональность, настолько силен, что и сейчас в некоторых умах живо понимание того, что алхимия, ключи к знанию которой утрачены, работает. В осознании потребности задействовать свой поэтический потенциал заключена бессознательная потребность избежать ощущения себя копией – примириться со слепым отпечатком, переписав его собственным, вызывающим, маргинальным языком, вокабуляр которого состоит из ретроактивных осколков раннего опыта (!).
Конструкция случая, зов личной истории, гораздо больше нуждается в литературном изложении сингулярности наслаждения, чем в формальной компетентности, водруженной психоаналитическими текстами. Опыт интерпретации отзывается в произведениях, в превосходящих линейность условиях возможности именования наслаждения другого. Поэтому нет образования аналитика, есть образование бессознательного, подвергающееся топологической формализации устройства субъекта. Внутренний стержень переноса берет начало своей устойчивости в конечном счете с демонстрации знания, но аналитик не может в полной мере поведать о содержании своего знания, давая шанс удивлению. Аналитик, наслаждающийся знанием в многословии, реализует, в сущности, разновидность инцеста, несущего отпечаток ложного пробуждения в длении взгляда. Откровение может восприниматься как опасность соблазнения, закабаления или поглощения, поскольку субъект прежде всего хочет быть любимым еще до всякого понимания. Сегодня психоанализ везде – в том числе и в своих противоположностях, а аналитики проявляются лишь точечно, местами. Как зло в писании исходит не от Дьявола, а от Бога, так и любовное переживание сочленяется со своей противоположностью в местах проявленности более общих начал. Не случайно в европейской культуре место религии давно заменила ультимативность любовного переживания. Реинтерпретация вывихнутого значения вписана в фантазм, присущий психоаналитическому движению, где истина привычно имеет структуру вымысла, а к каждому случаю аналитик подходит, заново открывая теорию.
Если жизнь субъекта – театрализованная драма, то все, что в ней встречается – не является истиной. Именно на сцене он учится любить, работать, познавать, сомневаться, и смотреть на себя изнутри этой сцены, себя не узнавая. Но, при этом узнавая историю, которую он рассказывает себе о себе же самом – историю, которая больше не имеет значения, поскольку произошло примирение со своей судьбой. Иногда аналитик принуждает к свободе своей беззаботностью, беспечностью, небрежностью, взбалмошностью, осевым отклонением, – снимая ограничения, он открывает шлюзы. Ничейность места аналитика как места высказывания весьма многогранна: парадоксальным образом аналитик своей прохладной отстраненностью (хотя анализ – в высшей степени эмоциональное событие) возвращает мужество, обнадеживает, содействуя освобождению и перезаписи личной истории.
Проявляя требовательность к строгости собственных формулировок, которые призваны сгущать смысл, приглашать к раскрытию мысли и внушать порой интеллектуальное опасение, по отношению к которому субъект является не господином, а жертвой, можно с уверенностью констатировать: экзистенциальной и неотменимо амбициозной перспективой является внесение духа романтизма в современный психоаналитический дискурс. Необходимость этого так же очевидна, как необходимость логоса получить власть над животным в одержимой идеей чуждого закона и невротизированной, глубоко противоестественной человеческой истории. Вывести закон – означает вывести лишенную значения формулу, и чем меньше она означает, тем более она оказывается подходящей. Именно поэтому так зачаровывает своим романтическим отсутствием значения теория относительности, ведь она представляет собой чистой воды означающее. Благодаря этому мы видим мир, лежащий перед нами целостно, и чем более означающее ничего не значит, тем неразрушимее его основание внутри большой теории и различных способов группировки значений. В анализе постигается преждевременное знание смерти, при котором содержание разрывает форму, образуя фрейм метафоры, переводя симптом в вид дискурсивного множества – метафора производит новый объект, образуя ресурс субъекта, его мерность и глубину! Происходит возникновение желания в речи, в метонимическом скольжении от одного слова к другому, от означающего к другому означающему, от значения к значению, от одного имени к другому. Аналитик обращается к бессознательному, а точнее к тому, чего нет на уровне слов, – к отсутствию, лежащему в сердцевине субъекта. Означающее, по сути, представляет собой инструмент, которым заявляет о себе исчезнувшее означаемое. Означающее не зависит от значения, а, как известно, является его источником, поскольку реальность субъекта – это реальность традиции, переданная и унаследованная посредством той речи, которая звучит вокруг субъекта с первых дней его жизни. След бессознательного в речи несет в себе знак отсутствия: любая интерпретация бессильна связать его с прошлым субъекта. Современный анализ не соразмерен утонченному человеку, который по определению атопичен своему социуму, – он усматривает в духе романтизма то, что представляется якобы знающим венцом творения. Вотчина его практики пролегает между реалистической традицией мысли и традицией греческой трагедии, где субъект пленен, терзаем глубинной структурой языка. В противостоянии тяжелой власти земли, нетрудно представить себе личностные черты как неких существ, совокупляющихся и сопрягающихся между собой в различных комбинациях, образуя множества и древний род, история которого полна череды убийств, кровосмесительных связей, эпических падений, инфернальных пророчеств, преступлений, перверсий, прочих метаморфоз логического и этического порядка. Вопрошание и становление, в определенном смысле, противоположны друг другу, а процесс анализа недвусмысленно подрывает цели лечения, восполнения функций психического, компенсации утраченного здоровья. Для анализа, как и для любви, необходимо расстройство всех чувств. Система представлений воспроизводит себя внутри себя же самой в необычайных, устрашающих формах, как и странность самого объекта исследования в психоанализе «не перестает не писаться» в силу своих впечатляющих смысловых резонансов, которые дают возможность перестройки всей структуры социальной связи. Одному Богу известно, ценой каких взаимоисключающих формул собственной жизни удается субъекту из тупика рациональной интерпретации выбраться, ступая на героический путь борьбы за возможность собственного бессознательного становления. Анализ у каждого свой – это и есть практика различия. Именно поэтому в момент, когда двери кабинета закрываются, ни о какой теории уже не может идти речь, и теряется возможность передать происходящее на уровне слов. Аналитический опыт в известном смысле представляет собой непристойную связь, покоящуюся на воображаемом присвоении объекта, выделенного из фантазмов. Большая теория всегда застенчива, поскольку за всем, что происходит, стоит нечто большее. Субъект расщеплен на то, что он о себе знает, и то, чего он о себе не знает: – на то, что вытесняется, и то, что идеализируется! Мир субъекта – его собственная галлюцинация, в пиковых точках предполагающая столь вожделенный огненный поток интуиции. Его Я вечно ускользает, а мировые сумерки, закат и упадок, дезорганизация и путаница в восприятии реальности наступают в силу того, что миру субъекта предстоит быть сотворенным заново! Существует выраженный дисбаланс между акцентом психоанализа на желании и его подрывным потенциалом, который сейчас притуплен как современным карикатурным индивидуализмом в отношении любви, так и тем, что происходит в самом психоаналитическом сообществе, препятствуя возвращению духа пробуждения. Любящий остается в одиночестве, и это дает ему полную свободу, какую открывает для себя мыслящий субъект благодаря заражению психоаналитической логикой. Нам остаются лишь попытки, в которых психоанализ начинает заново обретать тело большой теории. Сегодняшний взаимно резкий тон является отражением превращенной формой тревоги, связанной с предчувствуемым исчерпанием возможностей повестки, которая их сформировала. Авторский аналитический стиль продиктован необходимостью и паразитирует на субъекте в форме прерванных императивов Сверх-Я. У психологии и психоанализа еще не было случая сущностно сблизить свои позиции: в основе этого сближения могла бы лежать способность к разработке гениальных форм анализа как открытой системы, подобно заражению чумой, – ничего не исключая в своем становлении и минуя страсть к сосредоточению внимания на конвенциональных узлах теоретического устройства.
I. Амбивалентность любовного переживания. Ноэтические основания переноса
Мысль о любви упирается в строго субъективный опыт – как пожар в прериях, который виден лишь одному субъекту, – в то, как его любимая проводит рукой по волосам, смотрит на него или играет со своим котом. Но тот, кто занят субъективным, всегда создает собственную теорию любви, превращая чувство в мысль. Научность психоанализа объяснима преимущественно в том смысле, в котором он является наукой о любви. Вдохновляет не то, что мы знаем о любви, а то, что любовь знает о нас как заданный Идеалом Я объективный всеохватывающий процесс, протекающий сквозь сердцевину ядра субъекта и тем самым делающий его уникальным. Процесс считается объективным потому, что в основе переживания лежит совокупность процессов: работа нейросетей мозга, предыдущий опыт, гормональный фон, культурные детерминанты, бессознательные процессы, особенности коммуникации, уровень энергии и т. д. Поэтому столь важно выделить в работе с сопротивлением именно то, что идет непосредственно от самого Я. Именно в любви происходит столкновение с бытием как таковым, поскольку именно в любви субъект встает на ноги, обнаруживает свое место. В этом смысле, только параноик может любить по-настоящему и более-менее представляет как обстоит дело на самом деле, хотя именно параноидальность, наплодившая бесконечное множество недоразумений в осмыслении желания, затерявшегося в биологических координатах и, несомненно, имеющее «кровавое прошлое», представляет собой пункт снятия возможности забывать. А возможность забывать размещает субъекта в Символическом посредством эффекта пропущенного начала. В основе лежит инерция как идеальная форма существования отклонения, образующая поверхность реальность мазками так, чтобы неутешительный ответ на вопрос «почему же ничего не происходит?» был найден не на уровне театрализации постыдной семейной истории, а на уровне определяющего для любовного переживания логического разрыва. Психоанализ позволят получить представление о том, что заставляет субъекта любить и что побуждает его желать, распознать неслучайные сходства, устанавливаемые непосредственно на уровне языка, расшифровать базовые образы и символические артикуляции, а также установить логические связи в отношениях. Порой любовь вспыхивает как раскат грома, как маньяк, появившийся в темном переулке. Образ любимого объекта – способ обладания фрагментом реальности между субъектом и объектом, носящая экспериментальный характер манифестация психического в акте восприятия. Влечения вступают в отношения с образом, представляющим собой отражение образа собственного тела, поскольку Я первично структурируется и впоследствии пересобирается исключительно как интерпретация Идеала Я. Именно поэтому любящий переносит свой аффект на неведомый ему объект желания в качестве образа другого, а сам Идеал образуется как след пережитого желания, объектом которого субъект являлся изначально! Субъект, расщепленный уже своим пребыванием во вселенной языка (планом содержания и планом выражения), подвержен актуальной истериоризации, отказываясь от идентификации с объектом и неустанно ставя под сомнение свое существование в модусе наслаждения, он хочет знать о том, кто он и каким путем ему предстоит пройти через горнило своего желанию. Чем ближе мы приближаемся к истокам психического переживания, тем больше оказываемся перед лицом чего-то критического, сфабрикованного, довлеющего, – того, что компенсирует различие отклонением. Так субъект, затронув нечто принципиальное, отходит в сторону и определенным образом раздваивается. Желание и бессознательное желание принципиально не пересекаются в субъекте, поэтому он мечется в расщеплении между желанием и желанием остаться кем-то конкретным, превращая опыт в ресурс, а любимый объект во внешнюю (вынесенную вовне) часть себя. Эта амбивалентность, заключенная в любви, однозначно получает в развитии теории наибольший резонанс.
Не бывает идеального входа в анализ, как не бывает идеального любовного опыта, т. к. дискурс прерывается, порождая эффект диссоциации. Любовный опыт, как и опыт научного открытия, требует признания невозможного, выносимой встречи с Реальным в другом, образующей заузливание на уровне тел. Переживание, избегая интеллектуализации, меняет логическую модальность в регистре отношения к смерти, – в регистре, где всегда что-то не клеится, и где субъект полон решимости отрицать все, кроме любви, зримо меняющей его природу. Длительность аналитической сессии в этом смысле метафорична любовному переживанию. Способность к любовному переживанию не является характеристикой человеческого порядка, но, скорее, инициацией. Любое вовлечение в переживание опирается на предыдущий опыт переживания. Именно поэтому уважение к бессмысленному ритуалу, обряду или таинству в любви, как и флер, образованный вокруг психоаналитической практики, приносит свои плоды, скрепляя весь социальный уклад. Сама жизнь – это единственная и неповторимая попытка создания любовной связи, задействующая непостижимый опыт прикосновения к Реальному и фундаментальное осознание важности связей, причем непостижимость здесь служит фундаментальным основанием глубоко человеческого переживания. Двойник субъекта, содержащий объект желания, вызывает, классическим образом понимаемое, влечение к смерти в качестве защиты от конечности непредсказуемого, при помощи логических инструментов и открытия доступа к измерению Реального. Аватарами спасительно выпадающего объекта желания выступает голос, взгляд, грудь, воображаемый фаллос, экскременты, поток мочи, фонема и ничто (Lacan; Écrits, р. 817). Объект одновременно и умерщвляет, и предстает средоточием жизни. Фаллический объект неминуемо терпит крах на фоне величия, бросая тень на главенство означающего при удержании сцепок реальности, в силу того что измерение сексуальности изначально ознаменовано неудачей, промахом, несклеивающимся тревожным содержанием. Само устройство психики является преградой и одновременно возможностью для любовного переживания. Эту возможность, избегающую отбрасывания как страсти невежества (особой формы знания), питает упорная решимость к познанию своей вытесненной природы и природы другого, во всей ее изначальной сфальсифицированности. Желание любить – желание огромной силы, рождается в преодолении рабства вытеснения расширением условий любви – повышением градуса в отношении страха смерти, притормаживанием моментальной разрядки как эволюционно сложившейся системы безопасности и выживания.
Содержание переживания относится к символическому регистру, эффекту метафоры – эффекту замены одного означающего другим, двигающемуся по бороздам дискурса. Ведь сексуальность одна, учитывая особенности диспозитива наслаждения. Наслаждение связанно с запретом и содержит несимволизируемое начало – невыразимое, не поддающееся пониманию, бесконечное, бьющее как горный родник в событии тела. Запись любовного опыта в психическом, который станет впоследствии бессознательным знанием, прочно увязана с первичными браздами символического порядка на плоти, метками прочерчивания пунктирными линиям означающего порядка Другого. Сам опыт служит дешифратором в поле обнажения фантазма, в поле соприкосновения бессознательного знания двух субъектов за пределами их отношений. Субъекту жизненно необходимо внести что-что свое, отмеченное измерением невозможности, от первого лица, своего рода бред, порождающий устойчивое непроницаемое знание. Именно поэтому бред, привнесенный писателями и художниками (достаточно прочесть сказки Гофмана или Андерсена), доставляет такое неизгладимое удовольствие. Субъект в ходе становления оставляет не принадлежащие ему символические следы, интересующие аналитика в первую очередь. Отклик другого предполагает взаимное наложение разнородных измерений и соподчиненных уровней, составляющих основу сценического понимания (Lorenzer). Кроме того, знание это постоянно перезаписывается, и перезапись эта производится силой желания. Любовный опыт предполагает блуждания и встречу с означающим у кромки эрогенной зоны, следствием чего становится шрам кастрации. Таким образом наслаждение трансформируется из аутоэротического в фаллическое (временно прекращающееся оргиастический разрядкой), а наслаждающееся тело расходится с опытом любви, не имея возможности сочленения. Субъект потрясен в своих основаниях содержанием любовного опыта, где отчетливо проступает Реальное! Любовь непредсказуемым образом уберегает его от того, присутствия чего он не в силах вынести. Причем, чем больше переживание приносит наслаждения, тем меньше ориентировано оно на обретение смысла.
В сердцевине любовного переживания лежит установка на ее противоположность: на отсутствие чувств. Субъекту свойственно принимать ответственность за любовь к себе, за патологическую близость к миру любящего его существа, которое обещает исполнить ожидания высшего порядка и лишает одиночества. Субъект исполняет роль пришельца, который подсмотрел, как чувствуют другие, но у которого нет своей планеты во вселенной, на которую он мог бы вернуться. Это происходит вместе с моментом разочарования в обещаниях любви, прикрывающих всегда присутствующее отсутствие! Психоанализ предлагает немыслимо бесстыдным образом говорить буквально все, минуя уровень идеального как тайну происхождения жизни, которую и призван сообщить голос любимого! Сексуальность в данном случае является вымыслом, принимающим форму вторжения, углубляющего различие. Можно уверенно говорить о затушевывании догадки о то, что «все сексуально» в моменте первоначального экзистенциального ответа на требование, в момент перехода к инаугурационному одиночеству, ведь наслаждение отпечатывается на теле как отсутствие смысла (ab-sens) или свойственное еще римлянам отсутствие инцестуозного события. Отсутствие ответа (пустота) предстает как асоциальная модуляция свободы, как возведение спекулятивной границы, как реакция на невозможность и структурный провал в знании. Любовь возникает из внезапного возникшего изъяна в логике мироздания! Интерпретация игры желания производится нейтральным образом, исходя из сексуальной ответственности, смягчающей возможный драматизм эротического напряжения, его неизбежный эксцесс.

