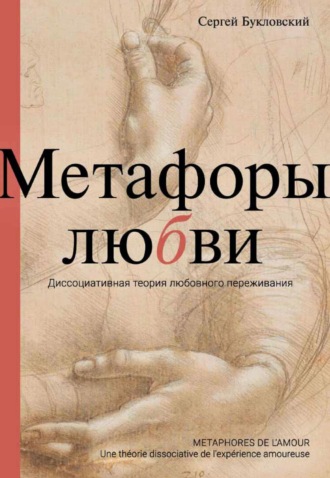
Полная версия
Метафоры любви. Диссоциативная теория любовного переживания
Оживленная любовным переживанием публичная сцена и разворачивающийся на ней процесс самостановление субъекта, демонстрирует, что выражение любви – это прежде всего вопрос власти! Проявление чувств поставлено в прямую зависимость эффектов дискурса и чем больше переживание табуируется, тем больше о нем рассказывают на исповедях и в кабинетах психоаналитиков, изобретая вновь. Превосходной иллюстрацией являются просуществовавшие всю Гражданскую войну по инициативе герцогов Луи и Филиппа Бургундского под покровительством Карла VI во имя пробуждения новой радости любви Суды любви (Cour amoureuse), формально объединившие врагов в поэтических баталиях во имя женщин, которых запрещено было каким-либо образом порочить. Целью ставилось возрождение максимально учтивого, отыгрывавшего сверхценность объекта и рыцарского отношения к даме. Поэтому Алена Шартье исключили из состава суда после публикации La Belle Dame sans mercy, хотя все члены имели разнообразное социальное происхождение и не должны были быть изгнаны, т. к. впоследствии они вместе управляли Орденом Золотого Руна (I’ordre de la Toison d’or). Субъективация идущих впереди художников и поэтов, перемещающих фокус взгляда из сферы автора в сферу сознания своего персонажа, поддерживает переплавление в рефлексивное движение, заставляющее усомниться в способах самовыражения и устройства собственной идентичности, включая стремление к признанию собственного переживания.
Любовный опыт позволяет обнаружить рассогласование того, что делается, и того, что утверждается, – между прагматичной идеологией и психическими феноменами. Он формирует обновленную идентичность посредством желания; в этом случае идентичность определяется любимым объектом и его ценностями, формирующими идентичность, отрицать которые субъект не способен. Переживание формирует характер, но само переживание становится тем, что прописано в фантазме. Дихотомия расчета и любви предполагает перформанс респектабельности, в центре которого располагается желание субъекта, т. к. идеал романтической любви отражает содержание дискурса и операций символического обмена (Long, 2004) классового габитуса внутри него или трансцендентного свободного дара.
Постановка перед собой навязывающей содержание цели любить, погоня за бытовым устройством или социальным положением, желание победить в конкурентной борьбе, нужда в сепарации от родителей, стремление обрести новый опыт или знание посредством переживания – все это любовью не является. В объятиях успеха любовь мертва. Любящему не хватает части своего уникального возможного бытия, которую он ожидает обрести в качестве дара за гранью привычного. В момент обретения другого включается диссоциативный процесс, радикально избегающий линейной логики и какой-либо заурядности – конфликт с ней определяет ценность существования объекта. Заурядная любовь, строго говоря, любовью не является. Сквозь повседневные слова любящий начинает изъяснять глубинные смыслы, не являющиеся для него самоцелью. Овладение и использование словом соответствует определенному фрагменту переживания, не предоставляя тем не менее твердой почвы для истины, метонимически функционирующей в языке! Более того, с точки зрения использования средств языка, субъект как множество не содержит сам себя. Любовный опыт может принимать вид любой вещи, превращающейся в его знак и предоставляющей модель грядущего удовлетворения, задействованного благодаря измерению несбывшегося. Речь любящего наполнена рискованной неопределенностью в выборе слов и принципиальной неполнотой; утверждая ценность инаковости другого и ее недостижимость на уровне реализации фаллической функции. Единичность любимого объекта, уникальность которого происходит из различия по роду (!), о достижении которой Гёльдерлин говорит в четвертой Штутгартской эпиграмме, определяет направления идеализации невозможного в отношениях. Тот, кто любил, может по достоинству оценить единичность, составляющую множество внутри пробужденного свободой персонального мифа, угасание которого влечет за собой рождение героя. Выбор объекта предопределен конфигурацией личной истории и там, где субъект выходит за ее пределы, образуется зона близости. Верность объекту обязывает к взаимной стойкости: отношения с объектом определяют противопоставленность нормам сообщества в силу того, что любовное переживание отнимает эгоцентричную жизнь – долю другого. Раскрывается особого рода напряженная тональность переживания, вводимая в игру реальности. Что любимый несет в жизнь любящего, как ни подчиненную бессознательному способность понимать себя, обращаясь к своим основаниям и расширяя внутри область владения собой как интегралом всех неопознаваемых мозаичных граней! Событие встречи всегда в некотором роде подвиг (non coerciri maximo, contineri tamen a minimo, divinum est), лишающий права присвоения объекта и сообщающий всю полноту связи с миром других в опыте принятия своей конечности… Завершаясь, любовь начинается. Верность, глубокая привязанность к другому предполагает преодолевающий цензуру опыт диссоциации, ведь наслаждение обладанием лишь конституирует скорбь утраты. Как и ностальгическое наслаждение неимением – тем, чего больше нет, но что уже является частью субъекта. Образуется зазор между Я, как спонтанно обращенным на себя центром субъекта, и другим Я, как модуляцией рефлексивности, не обращенной к инстанции Я, которая позволяет хранить верность субъекту в любви к другому (je suis un autre). Ведь Я совпадает с собой только в том приоритетном случае, когда в отношении обращается к чему-то другому, относительно себя. Это совершено другое по отношению к Я и позволяет явиться любимому в мир субъекта – вступить бездонной открытостью своей пустоты (тому, чем субъект мог бы быть) в резонанс с пустотой, заключенной в сердце другого (!). В той мере, в какой субъект реализует устрашающие качества своей сексуальности, держит это измерение открытым, он выходит за свои пределы (пределы эгоцентризма) и именно в этом пространстве располагается место того, кого он любит! Уникальность объекта любви не имеет ничего общего с конкретным Я как способом присутствия в мире, но имеет отношение к двойному парадоксу – каждый становится тем, что он есть, в меру того, как другой, изначально отличный от него, становится самим собой, кристаллизуясь в этой отличности. Отрицание правил сообщества роднит диссоциативные процессы с любовным переживанием. Субъект интроецирует предполагающую близость как диссоциацию бытия и сущего. Любимый же является для него тем, чем может быть только он, являя бытие, которое дает узнать себя уникальным с точки зрения желания образом в свободе быть собой, – свободе, приводящей в тревожное смятение развенчанием иллюзии индивидуальности. Инаковость другого высвобождает любовное переживание от всего, что является в желании субъекта не собой (!), распахивая двери опыту метапсихологической достоверности. Любовное переживание связано с бытием, присущим конкретному субъекту и питающим его неограниченную свободу. С точки зрения жизни в обществе настоящая любовь, проникающая в глубину другого на уровне переживания и предполагающая подобное отношение ко всем членам сообщества, невозможна. Без другого субъект не способен быть собой, но когнитивное значение (преломление значения) его слов, идущее в мир других как значение его личной истории, оказывается полностью оторвано от аффективного содержания. Диссоциация непосредственным образом констеллирует этот гибрид личности!
В переживании обнаруживается мультиперсональность, не исчерпанная ни одной социальной функцией: – раскол является началом переживания, всегда образующий нечто, находящееся за пределами бытия субъекта, – другое бытие понимающего субъекта, не выводимое из предшествующего, но дающее возможность сохраняющего это непонимание расширения реальности. Диссоциативное отчуждение лучше всего иллюстрируется переживанием, обнаруживаемом при прослушивании своего голоса на цифровом носителе, кажущегося чужеродным. Нет формы, в которой диссоциированное содержание могло бы реализоваться, т. к. оно принципиальным образом разобщено и не удерживается вместе, поддерживая напряженно устойчивое неравновесие. Важным, с аналитической точки зрения, образом нарушается последовательность переживания реальности за пределами причинных связей, отрывая двери сгущению метафоры и вытекающей из нее дифференциации. Самооправдание становится для диссоциации метафорой выражения проявляемого по отношению к ней подавления (Rivera, 1991), но сводить диссоциативность как таковую к реализации заведомо негативного сценария консолидации Я представляется ошибочным, при том, что самостоятельные диссоциативные феномены свободно развиваются в условиях отсутствия укрепляющих воздействий со стороны когнитивного обеспечения Я или слишком большого количества связей двойного назначения (Kluft, 1984) – Диссоциация символически предстает функцией, перед лицом которой субъект оказывается в положении собственного зеркального образа. Субъект и расщепленный субъект – два параллельных потока непрерывно инспирирующих метафорическое взаимопроникновение и искажение различием! Пустота, образованная на месте искаженного содержания, работает как креативная составляющая эффекта метафоры: знание о природе психического воздвигается обыкновенно на руинах прежнего псевдоэмпирического знания. Психическое образование предполагает возможность метафорической игры с чем-то таким, что подлежит замещению рекомбинаторным усилием. Диссоциативное напряжение доводит присущую раннему периоду игровой активности двусмысленность до максимального воплощения. Методологическая сложность заключается в том, что никакая категоризация и каталогизация не позволяет зафиксировать наиболее значительные для субъекта свойства его бессознательного как несбывшегося, из которого не извлечен опыт, который становится историей субъекта. Сверх-Я отбрасывает субъекта к ситуации, где он не имеет средств отграничить его влияние, становится его же центробежной метафорой, и где он имплицитно оказывается этой архаической инстанцией уже попран, отвержен. Психическая жизнь обусловлена наличием структуры Другого, поэтому можно представить себе, каковы должны быть последствия кризиса этой структуры для идентификации и ее организующих свойств в отношении социума, где субъект может утратить свой образ, утрачивая тем самым контроль над тем, что неупорядоченным образом представляет его другому и отвечает за извлечение недостающего представления в пространстве метафорического разрыва между восприятием и сознанием (). Трансформационный потенциал метафоры, оптической метафоры постороннего взгляда, наводит на мысль о нарушении организации психической реальности качественным нововведением, что является своего рода настройкой на субъекта бессознательного, позволяющей немедленно породить в отношении него нужный субъекту смысл. Подспорьем служит метафора разорванного листа, мозаично сложенного вновь в ином логическом соответствии и последовательности частей уже в другом взгляде. Функционирование бессознательного стоит рассматривать как эссенциальную метафору, отсылающую к тому, что было вытеснено и далее не редуцируемо. Это исчезновение значения, некий сухой остаток, такой же какой получается после отыгрывания вовне травматического содержания переживания и который влечет за собой нулевой уровень напряжения. Такого рода эффект наблюдаем в нарциссическом образовании Идеального Я, где субъект присваивает черты, которые синхронизированы на уровне желания и где он имманентен своему желанию.
Противопоставление любви и идентификации, доходящее в неспособности опровержения до одержимости психотического свойства, имеет принципиальное значение для доктрины психоанализа. Способность установить эмоционально плотный и структурно разнообразный контакт зависит от возможности превращения идентификации в опору переживания, т. к. идентификация в свою очередь противостоит объекту желания. Это тонкий момент для понимания связи любовного переживания и реальности. Поэтика переживания глубоко проницаема для той нарциссической амбивалентности, в которой субъект идентифицирует объект любви со своим собственным умозрительным образом, – в него облекается развитие желания и мотивированные семейным мифом притязания на выбор объекта (!). Истина любви открывается уже у Фрейда в экскрементальном даре ребенка, производимым за счет избытка выделений и подверженным влиянию поэтических идеалов, почерпнутых им во взаимодействии с миром других. В переживании этот поэтический идеал пафоса бытия присутствует непосредственно – отсутствующее нежданно возникает в настоящем, отстраняя субъекта. Мысль о любви, возвышающая субъекта до желания без объекта, испокон веков выступает его связующим звеном (зацеплением) с реальностью мира другого! Связь эта не минует рокового отклонения, диссоциации, вызванной работой бессознательного в любовном переживании, где отсутствием встречи субъект изолирует себя относительно Реального, а перенос определяет такт закрытия, связанный с обманом любви (). Образ любви – это то, что с раннего детства приписывает другой, – другой лишенный и покинутый, вместо привнесения единодушного согласия открывающий шлюзы памяти, что не позволяет прошлому отпустить субъекта просто так. Remembering, как восстановление присутствия и участия, лишь усугубляет дело пробуждения под давлением Идеала. Неукротимая любовь, раздуваемая энтузиазмом всеобщего признания и возведенная до такой степени неописуемыми свойствами объекта, расставляет ловушки любви в переносе. Субъект пишет свою историю любви, движимую необъяснимыми психическими событиями, продуцирующими его собственные идеи. Попытки создания объяснительной модели лишь затрудняют повествование и инерционно уплощают личную историю. Перегородка между любовью и ненавистью ломается взаимностью переживания, возникающего именно из того, что возбуждает любящего, а не из того, что он любит. Возбуждение никуда не девается, поэтому любое действие, имеющее отношение к переживанию, становится тотально сексуализированным в своем пределе. Психоанализ в этом смысле – роман, закручиваемый с субъектом бессознательного, как в очень взрослых парах, где двое буквально «прорастают» друг в друга своим бессознательным знанием о другом. Стоит вспомнить перформанс Марины Абрамович и Улая (Breathing In, Breathing Out, 1977), в дизайне которого они сидят лицом друг к другу с заткнутыми ноздрями, соединенные в поцелуе таким образом, что вдыхают и выдыхают воздух друг в друга. После семнадцати минут такого дыхания они теряют сознание от гипоксии и перенасыщения углекислым газом, т. к. они стали источником жизни друг друга, что приводит к их удушению. Любовный опыт, заполняющий рану в теле субъекта, видится философским камнем реформы аналитической теории, без того исполненной нарциссической подозрительности и методологическим отчаянием. Культура обещает отношения, которых не будет, потому что образ любви на глубинном уровне соотносится с образом смерти. Ведь любовное переживание, предоставляющее права доступа к желанию, это реализованный шанс, а не вычисление вероятностей, – что говорит о признании амбивалентности любви и ненависти, размещаемых на поверхности ленты Мёбиуса. Потенциал кажимости, реализован он или нет, делает переживание возможным на уровне слов, а сексуальные отношения бессмысленными. Бессознательное раскрывается в диапазоне перверсированной сложности любовного опыта на другой сцене, которая функционирует в производстве фантазий и отделяет отношения любви от всех прочих социальных связей. Ведь в беспрецедентном дискурсе любви важен не смысл, а знак – в нонсенсе природы Реальное пробивает себе дорогу в качестве особой формы знания, на которую и имеет смысл ориентироваться аналитику в своем исследовании. Только в любви субъект оказывается способен сказать свое слово, которому нет места нигде более, выбирая для познания то, что не поддается программированию или объяснению в отношениях (вне тела) и что делает Я произведением субъекта, особенно в интерактивных операциях.
Любовное переживание не регулируется биологическими и анатомическими детерминациями, философскими нелепостями университетского дискурса, генетическими или социальными координатами, но позволяет субъекту взять контроль над реальностью. Диссоциативное преобразование, которое отрывает субъекта от его статуса и его актуального состояния, является ценой, которую он платит за доступ к знанию, к которому он без этого оказывается не способен. Любовь к истине заменяется любовью к бытию, о котором повествует набившая исследователям оскомину платоновская диалектика. Любовь – событие, которое требует действия логики высшего порядка, деликатной абстракции и должно вызывать трансформацию в субъекте, – не в виде постепенного восхождение от желания к духовной трансформации, а в виде трансформации любимого в любящего, которая формулируется в опоре на то, что известно о стигматизации мученичества. Ведь ценны те заслуги, которые относятся к любви на уровне метафоры как замещения не одного означающего другим, а одного субъекта другим. Присутствие желания другого воображаемо на уровне переживания в том двойном смысле, в котором оно может не соответствовать своей реальности (субъект может лишь предвосхитить его по собственному образу), и которое определяет его расширение как набор всех возможных последующих комбинаций, означающих внутри цепи. В сердцевине диалектического начала язык не вмешивается в любовный опыт и не определяет направления канализации либидинального потока. Речь идет не о том, чтобы придать форму сырому материалу, которым является желание, с помощью языка, и не о том, чтобы изменить его статус, возведя на уровень более высокого порядка, а о том, чтобы перевести эту диалектику любовного переживания в другой регистр. Любимый слушает и стремится услышать, где присутствие другого уже не гарантировано. В таком слушании прочерчивается измерение требования, то есть желания понять желания другого, т. к. только искренне желая присутствия другого, который запрашивает присутствие, субъект может интерпретировать событие как проявление воли. С этого момента субъект не готов довольствоваться тем, что хочет другого; он должен бесповоротно занять позицию того, кто хочет, не считаясь с предшествующим опытом. Это изменение регистра слушания, его трансформацию, можно считать метафорой любви – заменой любимого на любящего. Конечное событие любви на уровне бессознательного знания настолько далеко заходит, что это прописывается в доступе к желанию и его интерпретации. Разжигание желания в другом – это то, что предполагает метафора любви и то, что происходит в ней на уровне значения, может быть интерпретировано в терминах «рождения» на уровне доступа к знанию персонального мифа. Ведь когда субъект любит, он не знает об этом, не может подвергнуть это знание артикуляции, поскольку подобно Клерамбо увлечен драпировкой тканями завесы собственного переживания. Начало любви – это всегда возвращение, связанное с бессознательным знанием, полностью прозрачным как для самого себя, так и для забвения субъекта в его вероятности. Это начало, лишенное опоры, пролегает между эпистемой, бессознательным знанием, изначальной атопией социуму (желанием обретения вечности, которое объединяется с драйвом влечения к смерти) и невежеством (объектом желания, соотнесенным с не-знанием, но подразумеваемым в знании о любви как соприкосновением с Реальным). Если субъект знает, что он любит, он всегда оказывается не в состоянии сказать, почему это любовь, и каким образом она укореняет его в бытии. Любовное переживание оформляется таким образом как желание бессознательного знания. Поскольку объект желания постулируется и востребован как пустота, предваряющая конкретную форму объекта, устанавливаемую структурным эффектом знания, он совершенно не обеспечивает непоколебимую поддержку образа, в котором субъект распознает причину своего любовного переживания в качестве открытого для вечного отречения объекта.
Ключевым постулатом психоанализа остается способность не отвечать на внешнее требование, сохраняя молчание (принцип абстинентности работает как в любви, так и в аналитической процедуре), поскольку знание рождается из дыры в знании, пробела, притом, что знание и желание образуют своим срастанием специфический узел! Задействование интуиции видится оптимальным решением, когда субъект оказывается в центре сгустка означающих. Лаканисты говорят об этом странно, и в их речи, упоенной любопытством на подступах к бессознательному, всегда что-то самым продуктивным образом не клеится – образует пробел. Локальная истина не способна одним махом разрушить целостную объяснительную систему и предваряющие рассуждения о конкретном явлении, но движение от локальной истины к глобальной организации знания не всегда дает устраивающие проницательного исследователя плоды. Эстетическое чувство дискурсивного события вселяет уверенность в исследователя, как и специфическое игнорирование мнения интеллектуальных авторитетов, их хрупкого правдоподобия. С того момента, когда два дискурсивных порядка вступают в резонанс, их соответствующие метафорические силы сталкиваются в ключевых точках человеческого воображения. Концепция магнетизма служит тому безупречной иллюстрацией. Поскольку уродливое подрывает способность к переживанию, задачей видится пробуждение и очищение пути эстетической чувствительности, ведь эффект психоанализа начинается с заявления субъекта о собственных предпочтения, со стимуляции ассоциаций и воображения. Японская культура превосходно иллюстрирует эстетическую причину высокого качества развития, которую пуританский ум усваивает с трудом: качество развития прочно увязано с ролью эстетики в обучении, как символически увязаны в культуре хризантема и меч. Обучение каллиграфии, составлению цветочных композиций, раскрывающим индивидуальность танцевальным жестам самовыражения, вырезанием из бумаги, обустройством своего сада камней – все эти традиционные виды образования не лишают способности разрывать старые меха новым вином! Психоанализ зачастую испытывает методологические трудности в этом отношении. Передача психоаналитического (бессознательного) знания проходит через собственный анализ, изучение случаев и это отнюдь не общее знание, зависящее от универсальных законов. Аналитический картель не случайно требует он кандидата представить собственный случай как клинический. Любовный опыт всегда создает случай на зыбких семиотических основаниях, предвосхищающих идеи, которые позволят субъекту переживания встретится со своим соссюровским референтом (у Соссюра означаемое находится над планкой, а означающее под ней, и они вписаны в круг, который является представляющим собой единство знаком) на уровне третьего лица и главным образом на уровне переноса. Причинно-следственные связи здесь распадаются, поскольку ничего естественного не предстает перед внутренним взором, а попытки установить связь между законом и конструкцией случая напоминают получение куска торта без вкуса. Локальная истина не может утвердиться в качестве истины глобальной – глобальная истина может только принять локальную, в качестве своего другого. Дискурсивное событие имеет смысл рассматривать как конструкцию вне локализации, которая благодаря принадлежности к нескольким различным дискурсивным порядкам движется от локального к глобальному. Когда локальные консистенции не выдерживают глобальной согласованности систем, в которой они представлены, дискурсивная инстанция возвращает себе права, которыми она руководствуется в конечных формах эпистемологической редукции данности субъективного факта: то, что не может найти своего символического основания, в итоге находит свое воображаемое завершение. То, что не может быть продемонстрировано, пока не удается это что-то изолировать, таким образом возводится в ранг аксиомы. Но ложный пассаж операции, который придает рассматриваемому элементу весомость доказательства, стремится прийти к решению, обеспеченному локальными данными рассматриваемого знания разного типа и установлением связи с другими дискурсами на том же уровне глобальной организации.
Когда речь заходит о любви, это напоминает диалог Алисы с Шалтаем-Болтаем, которая, пройдя сквозь зазеркалье, жаловалась ему на непонимание значения тех или иных слов, т. к. он использует их в совершенно разных контекстах, и они могут означать так много разных вещей. На что тот презрительно отвечал, что каждый раз, когда он использует слово, оно означает именно то, что он сейчас выбрал иметь в виду, – ни больше, ни меньше. Полисемантизм любовного переживания и возникающие в связи с этой абстракцией как вероятностью обескураживающей множественности, разочарования исследователей совсем не случайны. Прототипические эмоциональные эпизоды романтического переживания представляют собой сложные наборы эмоциональных компонентов, организованные различными способами, причем каждый компонент эпизода переживания может служить отдельной основой для таксономической структуры – это представляет собой методологическую проблему связности исследования. Близость, страсть, ненависть и обязательства неумолимо переплетаются в ткани переживания, не имея твердой детерминации, а традиционные объяснительные модели могут стать клеткой детерминации. Принципы абдукции, особенно в комплексных естественно-научных или психологических моделях, критериально схожи с предложенными мною принципами диссоциации: психическое содержание переживания имеет смысл рассматривать как совокупность взаимодействующих частей или компонентов; взаимодействие которых порождено различием; для психических процессов необходимы замкнутые или более сложные цепи детерминации; в психических процессах эффекты различия в дифференциации рассматриваются как трансформы (закодированные версии) различий, которые им предшествовали; описание и классификация данных процессов трансформации выявляет иерархию логических типов, свойственных самому явлению. Идея поглощения логической детерминации переживания рациональной, осознанной мотивацией, является, по моему мнению, догматическим преувеличением, не применимым в психоанализе. Задействование эвристических ресурсов представляется недостаточным, – как проблема преодоления эссенциализма внешней детерминации в исследовании, как методологическая проблема анализа любовного переживания в связи с социальной реальностью, хотя степень общей разработанности проблемы говорит здесь сама за себя. Психоанализ, как последнее прибежище неутилитарного знания, отказ от внешней детерминации, в котором уже определил его статус, рассматривает опыт как фантазматический конструкт отыгранного раскола внутри субъекта (!). Переживание лишь конституирует диссоциативный сценарий, – опыт невозможности и парадокса, пульсирующей в сети означающих. Войти в социальную реальность желающий субъект может только ценой расщепления. Проблема теории любовного переживания как скоротечного явления, ослабляющего каузальные связи неопределенностью, заключается в стремлении выдавать теорию части феномена за теорию феномена в целом. Расширение границ Я вызывает эйфорию и угрожает мнимому благополучию развития отношений, выходом из чего становятся неконтингентные (дающиеся без требования или ожидания будущих взаимных выгод в отличие от требования исключительности) отношения quidpro quo, покоящиеся на чувственности! Некоторые отношения, фундаментально исполненные требованием исключительности, оказываются сильнее любви. Свободу переживания обретает тот, кто признает свою атопичность социуму и одиночество – в противном случае преобладает измерение требования. Аффективные связи не предустановлены в сексуальном отношении и развиваются в соответствии с принципами, свет на которые проливает теория желания Лакана.

