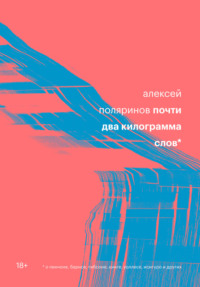Полная версия
Риф
Когда в 1976 году случилось массовое самоубийство, пророк Авраам выжил – сам он не последовал за своими бедными адептами, но попытался спрятаться – залез под кровать и затаился, надеясь, видимо, что полицейские и судмедэксперты слишком ленивы и не будут проверять очевидные места. Он ошибался – полицейские обнаружили его довольно быстро, выкурили из-под кровати и проволокли к выходу прямо за ноги, пока он плакал, умолял о пощаде и цеплялся за ножки стульев и балясины. Так он попал под суд и угодил в тюрьму пожизненно. Всю его собственность конфисковали, и пару лет, пока шел процесс, дом был оцеплен и числился в деле как место преступления и вещественное доказательство одновременно. Суд освещали местные каналы и газеты, и пророк Авраам, он же Уилбур Патрик Патридж, бывший торговец подержанными автомобилями, пережил новый виток славы; его история – безумная и странная, – попав на первые полосы, привлекла целую армию безумных и странных людей со всей Америки, которые стали съезжаться к уже ставшему культовым дому на улице Хорн-Лейк. Местные жители, естественно, были ужасно недовольны тем, что их район превратился в магнит для сумасшедших. Начались митинги и акции протеста, активисты ходили по квартирам и собирали подписи под петицией с требованием снести, уничтожить проклятый дом – избавиться от памяти о нем и жить дальше.
В процессе участвовала и Марта Шульц – она консультировала юристов и замгенпрокурора, помогала составить психологический портрет подсудимого и даже выступила на одном из заседаний, пыталась объяснить присяжным, как так вышло, что этот опухший, потный, разведенный торговец подержанными автомобилями умудрился подчинить себе целую группу взрослых, разумных людей, заставил их порвать все социальные связи, продать все имущество и в конце концов покончить с собой. Это было не первое ее дело; к тому времени Марта уже несколько раз выступала экспертом на судах и еще чаще помогала полицейским в делах, связанных с культами или НРД – новыми религиозными движениями. Еще в 72 году она защитила докторскую, почти целиком посвященную «Семье» Чарльза Мэнсона, и тогда еще даже подумать не могла, что станет самым известным в штате экспертом по сектам; заканчивая монографию, она и не подозревала, насколько все плохо – до 1969 года, до дела Мэнсона, религиозные культы в академических кругах не считались чем-то особенно важным и достойным исследования; в 1967 году Марта училась на отделении клинической психологии и просто ради любопытства решила изучить вопросы психологического насилия на религиозной почве. Ее научному руководителю тема не казалась особенно перспективной, но он махнул рукой, да, мол, делай что хочешь, и Марта занялась исследованием – к ее удивлению, материала оказалось гораздо больше, чем можно было представить. Затем случился Мэнсон, и совершенно неожиданно работой Марты заинтересовались не только коллеги, но и правоохранительные органы. Ходили слухи, что в 1970 году ей звонил сам Винсент Буглиози, чтобы проконсультироваться насчет «Семьи», и после этого случая ее имя стало довольно известно в юридических и судебных кругах; все прокуроры и судьи знали, кого звать в случае, если на скамье подсудимых окажется очередной самопровозглашенный Иисус или Ной.
За семь лет Марта провела сотни консультаций, составила психологические портреты десятков лидеров культов и помогла довести до конца бессчетное количество судебных процессов, но именно дело Патриджа стало для нее поворотным. Именно там, на одном из заседаний, она поняла, что ей это неинтересно, что, помогая посадить очередного социопата с комплексом бога, она не чувствует ничего, кроме усталости и брезгливости; эта работа отнимала слишком много внутренних ресурсов и совсем ничего не давала взамен. Когда коллеги поздравляли Марту с очередным отправленным за решетку горе-пророком, она не могла заставить себя даже улыбнуться в ответ. Но однажды перед заседанием по делу Патриджа она услышала разговор замгенпрокурора с помощником – они обсуждали тот самый дом с торчащей из крыши яхтой, который за последние месяцы, по выражению замгенпрокурора, «стал настоящей занозой в заднице у городских властей»; никто не знал, что с ним делать – к нему каждый день приходили люди: одни оставляли цветы и свечи в память о жертвах, других притягивала аура сенсации и массовой резни; хозяева соседних домов были страшно недовольны и требовали снести дом, но власти не могли этого сделать по юридическим причинам – дом числился местом преступления и вещественным доказательством во все еще не закрытом деле. Марта сидела рядом на лавочке и попросила у замгенпрокурора папку с фотографиями, увидела дом и тут же подумала: «Надо его купить», – и сама удивилась тому, что эта мысль вообще пришла ей в голову.
– Сколько он стоит? – спросила она.
– Кто? – замгенпрокурора посмотрел на нее.
– Дом, – она показала фото.
– Какая разница? – засмеялся он. – Не думаю, что кто-то захочет купить эту хреновину. Мало того, что в крыше дыра, там еще и паркет от пятен крови не отмыть.
– Я хочу.
– Что?
– Я хочу его купить.
В тот день она вряд ли смогла бы объяснить, зачем он ей нужен – это было даже не решение, а что-то другое – предчувствие. Замгенпрокурора с помощником смотрели на нее как на блаженную, думали – шутит. Но ей и правда казалось, что будет неправильно – уничтожать место, в котором произошло что-то настолько страшное. Она решила сохранить дом и придать ему смысл; и – если получится – придать смысл себе, своей жизни. Она окончательно поняла, что больше не хочет изучать лидеров религиозных культов, во всяком случае – напрямую; не хочет разговаривать с ними, копаться в их головах, составлять их профили, вообще хоть как-то соприкасаться с ними – все они были так банальны и так похожи, что уже давно сливались в ее мыслях в один размытый и скользкий образ. Гораздо больше ее беспокоили жертвы, выжившие или их родственники, те самые люди, которые на заседаниях обычно сидели, стыдливо опустив головы, боялись поднять взгляд, сломленные, разбитые, замученные; она давно наблюдала за ними и стала замечать у них признаки посттравматического расстройства. Однажды она попыталась найти в университетской библиотеке какие-то исследования о психологической помощи людям, пострадавшим от НРД. Нашла целую стопку работ о ПТСР у бывших военных, ветеранов Вьетнама, но жертвами культов, кажется, никто особо не занимался, их словно бы никто и не считал жертвами. Марта подумала, что это ее шанс, что все ее знания, весь ее многолетний опыт принесут гораздо больше пользы, если их направить на этих людей – на тех, кому не повезло; на тех, кто, возможно, даже не отдает себе отчета в том, как сильно его покалечила жизнь рядом с самозваным пророком.
И так, когда в январе 1978 года суд огласил приговор Уилбуру Патриджу и дело было закрыто, Марта Шульц выкупила дом – это было несложно, его продавали за копейки на аукционе; замгенпрокурора был прав, никто особо не горел желанием заселиться в дом с такой ужасной историей. Но Марта думала иначе – в тот год она и основала фонд «Дом Тесея».
* * *Местные, надо сказать, давно привыкли к дому с торчащей из крыши яхтой, его тяжелая история уже никого особо не трогала – ну, было и было; со временем тревожная аура дома ослабла, он больше не ассоциировался с бойней, последние почти тридцать лет в нем располагался центр реабилитации, и теперь он словно бы покрылся налетом повседневности, местные перестали замечать его, их взгляды скользили по фасаду, но не задерживались на нем; между собой соседи называли его просто «Новый дом» или «дом Тесея» – хотя если остановить прохожего и спросить, почему именно «новый» и при чем тут Тесей, он вряд ли сможет вспомнить, скорее всего, пожмет плечами и скажет: «Ну, просто так повелось».
Ли долго не решалась подойти к дому, стояла чуть поодаль, через дорогу, разглядывала окна – со стороны, наверно, выглядела как сталкерша. Затем переборола себя, перешла улицу, взошла по ступенькам и нажала на звонок. Дверь открыла молодая девушка с роскошным афро; прищурилась, разглядывала Ли, словно пыталась вспомнить, где могла видеть ее раньше. Ли сказала, что хочет поговорить с Мартой, и девушка, не говоря ни слова, жестом показала «иди за мной». И следуя за девушкой по коридору, Ли не могла отвести взгляда от ее пружинистой и идеально симметричной прически и боролась с соблазном протянуть руку и потрогать волосы.
Марта Шульц сразу узнала Ли и, казалось, совершенно не удивилась. Ли присела на стул и хотела что-то сказать, но вместо слов произнесла лишь невнятное «эммммм» – она снова столкнулась с этим странным внутренним блоком: всякий раз, когда она думала о Гарине, у нее начинались проблемы с формулированием мыслей; было устойчивое ощущение, будто подсознание сопротивляется, не подпускает ее к воспоминаниям о годе, проведенном в Миссурийском университете.
– Все хорошо? – Марта Шульц подняла бровь.
– Я почитала о вас, – сказала Ли. – И хотела узнать: почему?
– Почему что?
– Почему вы пришли тогда? Доктор Браун позвал вас поговорить со мной. Почему именно вас?
– Я полагаю, если ты здесь, ты уже знаешь ответ.
– Да, но я никогда не была в секте.
– Хорошо. Тогда расскажи мне про Юрия Гарина.
От одного его имени по спине Ли пробежал мороз.
– Ты сейчас задержала дыхание. Ты всегда задерживаешь дыхание, когда я произношу его имя.
– Это неправда.
– Юрий Гарин, – она помолчала и повторила, – Юрий Гарин, – затем снова пауза и опять: – Юрий Гарин.
Ли стиснула зубы.
– Хватит.
– Юрий Гарин.
– Пожалуйста, хватит. Хорошо. Вы правы. Вы можете мне помочь?
* * *Первые полгода Ли казалось, что сеансы терапии не дают никаких результатов и она зря теряет время. Марта Шульц учила ее, что прошлое – это сложнее, чем «было»/«не было»; прошлое – это ресурс, который нужно учиться не только добывать, но и хранить. С хранением были сложности – копаясь в самой себе, Ли обнаружила, что ее память за последние два года состоит в основном из пустот и – если искать какой-то подходящий образ – напоминает книгу, из которой вырвали каждую третью страницу. И в этом была главная проблема – во время сеансов ей приходилось непросто; нужно было не только вспоминать лица, эмоции и диалоги, но и как бы реконструировать их, заполнять провалы, восстанавливать связи между репликами. Эта мысленная реконструкция была чем-то похожа на работу реставратора, который восстанавливает поврежденный, порванный вандалом холст; или эксперта-криминалиста, который по брызгам крови на стенах, расположению тел и гильз на полу пытается вычислить убийцу. Иногда, закрывая глаза и пытаясь вспомнить тот или иной день, Ли жаловалась Марте, что картинка начинает плыть, а звук пропадает – люди, предметы, образы – все изломано так, словно кто-то в ее голове заметает следы, сопротивляется, не дает ей заглянуть в себя.
Терапия долго не давала ощутимых результатов, – иногда Ли и вовсе казалось, что она застряла и все ее попытки вспомнить и заново прожить Миссури тщетны, и тем не менее спустя примерно год после начала сеансов она поняла – кое-что изменилось: Гарин уже не казался ей таким всемогущим, он больше не пугал и не восхищал ее, при мысли о нем она не возбуждалась, как раньше, ее не охватывал священный трепет, наоборот, – теперь ей было странно вспоминать о нем, теперь хотелось только одного – понять, почему он до сих пор занимает в ее голове так много места. И каждое новое восстановленное воспоминание поражало ее. Теперь, когда она вслух проговаривала все, что он с ней делал, ей было очевидно – это ненормально, он не имел на это права.
Она все чаще вспоминала случаи, когда он срывался и кричал на нее; у него бывали «сумрачные дни» – он становился груб и раздражителен, мог повысить голос или схватить за плечо, а то и за горло, оставить синяк; как метеочувствительные люди зависят от погоды, так Ли была зависима от его настроения. Когда он злился, она терялась, потому что совершенно не могла понять, чем провинилась, и уже автоматически начинала просить прощения – и это работало: Гарину нравилось, когда люди унижались и заискивали перед ним. Особенно Ли. Он любил утешать ее, а потом просил сделать для него «кое-что», чаще всего какую-нибудь «мелочь», просто чтобы доказать свою преданность, – приготовить ужин, сходить в магазин, раздеться. И она делала все – готовила, ходила, раздевалась. И всякий раз, соглашаясь сделать «кое-что», она чувствовала одновременно и восторг – он любит ее, она ему нужна, – и тошноту: она знала, что скоро период любви закончится и наступят «сумрачные дни» – они всегда наступали, – и он снова начнет кричать и срываться. И вспоминая эти дни, она даже самой себе не могла ответить – зачем терпела, почему позволяла так с собой обращаться.
Сеансы терапии с Мартой Шульц дали ей многое: она не излечилась, нет, иногда ее накрывали панические атаки, но теперь она была к ним готова, теперь она знала, что происходит, умела слушать себя.
Помимо прочего она вспомнила и работу над докторской. До нее дошло, что за полтора года в Колумбии она почти не продвинулась в своих исследованиях, что было странно, учитывая насаждаемый Гариным культ труда – он очень внимательно следил, чтобы его студенты работали 24/7, жертвуя сном и личной жизнью. И тем не менее все они, включая Ли, вечно отставали от графика. Лишь спустя годы, распутывая узлы памяти, заново проживая те дни, Ли поняла – на самом деле большую часть времени она и прочие phd-студенты работали не над своими исследованиями: они работали на Гарина. Ли с удивлением обнаружила, что, в сущности, все два с половиной семестра по сути выполняла роль его секретарши. Он пользовался властью аккуратно – сначала просил «помочь по мелочи», найти пару статей на заданную тему, расшифровать или перевести что-нибудь. «Это займет совсем немного времени, но ты меня очень выручишь, у меня совсем завал», – говорил он. Затем, когда она приносила ему необходимые статьи, расшифровки и переводы, он хвалил ее за оперативность и далее, «если несложно», просил еще о чем-нибудь. Ей было несложно, через полгода жизни под его влиянием она вообще уже плохо отличала сложное от несложного, свое от чужого, и его похвала была для нее высшей наградой. В этих просьбах на первый взгляд не было ничего преступного, – любой профессор иногда просит студента об услуге, обычная практика, – проблема в том, что Гарин просил постоянно, систематически, и отказать ему было невозможно – все знали, что отказ повлечет за собой наказание.
На одном из сеансов Марта посоветовала Ли сходить на курсы коллективной терапии, еженедельные собрания гостей (Марта не любила слово «пациенты») дома Тесея и всех желающих рассказать свою историю.
– Это как? – спросила Ли.
– Ну как, несколько человек сидят кругом и делятся опытом и переживаниями.
Ли эта идея не понравилась – собираться группами и рассказывать незнакомцам о своем прошлом; одно дело терапевт и совсем другое – люди с улицы. Кроме того, ее тревога была вызвана еще и тем, что она постепенно вспоминала все больше особенностей гаринского «преподавания» в Миссури. Помимо концертов перкуссионной музыки братьев Волковых, он практиковал еще один ритуал – собирал всех студентов вместе и для укрепления духа товарищества устраивал так называемые «сеансы доверия»: каждый студент по очереди брал слово и рассказывал о себе что-то личное – полученную на этих «сеансах доверия» информацию Гарин затем использовал, чтобы манипулировать ими. «Сеансы» обычно заканчивались тем, что кто-то из них начинал рыдать и все они обнимались и ощущали невероятное единство и благодарность. Все, кроме Адама. Он в их «команде» был кем-то вроде козла отпущения. Они вечно смеялись над ним – иногда прямо в лицо, и Гарин поощрял эту жестокость. Ли хорошо помнила звериный восторг, который охватывал ее, когда они насмехались над Адамом, и еще – облегчение от того, что смеются не над ней, что она – не Адам.
Поэтому, когда Марта предложила ей посетить курс коллективной терапии, Ли напряглась и призналась, что не хотела бы участвовать ни в чем подобном, потому что это о-о-о-о-очень похоже на то, что с ней делали в Колумбии.
– Я понимаю, но это не одно и то же, – сказала Марта. – От тебя ничего не требуется, просто сходи и послушай людей. Есть встречи анонимных алкоголиков, есть – анонимных наркоманов. А эти встречи у нас – то же самое, только для тех, кто пережил культовый опыт. Попроси Джун, она поможет.
Джун звали ту самую девушку с афро. Она была настолько немногословна, что некоторые гости дома Тесея считали ее немой. Чаще всего она сидела в общем зале – так называли самую большую комнату на первом этаже с панорамным окном с видом на задний двор, – расположившись в кресле, перекинув одну ногу через подлокотник, покачивая тапочкой, с огромным томом энциклопедии Британники в руках. На первых порах Ли – как и все гости дома – была уверена, что это просто поза – кто в здравом уме будет часами сидеть в кресле и читать энциклопедию? – но поменяла мнение о Джун, когда увидела, как быстро и легко та находит и сортирует необходимые папки в картотечных шкафчиках. У Джун была феноменальная память, и в доме она собирала данные для диссертации, а еще, чтобы быть полезной, вела встречи взаимопомощи.
Именно там, на одной из первых встреч, Джун рассказала свою историю:
– Это было в 95-м, – начала она, когда все собрались и расселись на стульях, – я училась Чапел-Хилле, в аспирантуре, писала работу о психологическом насилии, и сейчас вы поймете, насколько это иронично. Научный руководитель предложил мне, – она сделала кавычки пальцами, – «поработать в поле» и изучить структуру и методы вербовки «Церкви Единого Христа», сокращенно ЦЕХ, – это была такая сравнительно молодая еще секта. Ее община располагалась как раз у нас, в Северной Каролине. И я решила внедриться туда, – Джун рассмеялась; было очевидно, что она уже не в первый раз рассказывает эту историю и за годы научилась относиться к ней с юмором, хотя руки все еще выдавали волнение – она без конца терла запястья так, словно с нее только что сняли наручники. – Да-да, только подумайте, я внедрилась в секту, чтобы изнутри изучить их доктрину и методологию. И поскольку я сейчас сижу здесь, перед вами, я думаю, вы уже догадываетесь, чем все закончилось. – Она оглядела присутствующих. – Я провела там два года – и до сих пор работаю над тем, чтобы вспомнить, что я там делала и как жила. Заполнить белые пятна. Это ведь тоже проблема, правда? Нам кажется, что в секты попадают только глупые и необразованные люди. В самом деле, кем надо быть, чтобы купиться на то, что пишут в этих тупых брошюрах, правда? Вот и мне так казалось. Мне казалось, мой ум, скептицизм, образование – все это защитит меня. Я ведь ученая, я провожу исследование. Я чувствовала себя двойным агентом, шпионом, и мне это нравилось. Я изучаю секты, я слишком умна, я знаю все их приемы, они не смогут меня обратить. Так я думала в первый день, когда вошла в общину, – она горько ухмыльнулась, глядя куда-то в сторону. – Через месяц я переписала всю свою собственность – машину и банковский счет – на местного гуру, основателя ЦЕХ, и порвала все связи с внешним миром. А потом – и с реальностью. В течение первого месяца после внедрения друзья и коллеги в университете замечали, что я изменилась, советовали обратиться к психологу, а я смеялась в ответ – я и есть психолог, я все контролирую, мне не нужна помощь, помощь – это для слабаков. – Джун оглядела всех, задержала взгляд на Ли. – Это самое сложное, – сказала она, – признать, что тебе нужна помощь. Что ты просто человек. И что люди ошибаются. Любого человека можно обмануть, использовать, обвести вокруг пальца. Но если тебя обманули или использовали – это не значит, что ты глуп, и уж точно не значит, что ты виноват. Никто не заслуживает быть обманутым и использованным. Я два года прожила в общине и занималась в основном тем, что сектанты называли «истинным предназначением женщины» – готовила еду, стирала одежду, мыла полы и каждый вечер сексуально обслуживала мужчин; все это, по словам местного гуру, было необходимо, чтобы «освободиться от ярлыков». Эту фигню он втирал нам каждое воскресенье на проповедях, – Джун заговорила хриплым, карикатурным голосом, изображая манеру гуру: «Свобода невозможна, пока вы носите на себе ярлык „я“, пока цепляетесь за „личность“, пока оцениваете себя и сравниваете с другими. Внешний мир лепит на вас ярлыки и подавляет вашу истинную сущность, и чтобы избавиться от оков Внешнего Мира, нужно сначала освободиться от „я“, преодолеть эгоизм». Этим мы и занимались, – сказала Джун уже своим нормальным голосом, – «преодолевали эгоизм». Мужчины работали в поле, собирали урожаи, торговали, а заработанное отдавали гуру. Женщины готовили еду, убирались и вербовали новых членов; и спали с мужчинами. Секс не считался грехом, наоборот, гуру учил, что секс – это обыкновенное «отправление нужды» и что так называемое грязное общество Внешнего Мира специально стигматизирует половое чувство. – Она снова изобразила голос гуру: – «Во внешнем мире секс – это очередной ярлык, средство контроля. На самом деле секс – это путь к освобождению». В общине насаждалась свободная любовь. Женщины не имели права отказывать мужчинам. Если женщина отказывала, ее обвиняли в том, что она «цепляется за свое „я“», в том, что она «эгоистична» и не готова к «абсолютной свободе». Я бы, возможно, и сейчас была активной сторонницей «Церкви Единого Христа», если бы не чудо. Хотя – можно ли назвать чудом аварию, в которой ты чуть не лишилась возможности ходить? 12 сентября 1997 года я стояла на остановке и раздавала наши брошюры ожидающим автобуса студентам; я была симпатичной, поэтому меня иногда отправляли вербовать новых адептов – поближе к кампусам и общежитиям. Меня сбило такси. Водитель – его, что иронично, звали Джаганнатха Тхапур, – ехал по Салливан Драйв на восток. Он работал уже трое суток, без перерывов, и попросту уснул за рулем. Машина выскочила на обочину и, прежде чем врезаться в столб, сбила меня, как кеглю, – Джун снова улыбнулась, словно давая понять, что эти воспоминания уже не причиняют ей боль. – Сначала я попала в больницу, а потом сюда.
* * *Рассказ Джун произвел на Ли сильное впечатление и заставил в очередной раз пересмотреть свое отношение к прошлому и к терапии в целом. В истории Джун – как и в историях других гостей – был отрезвляющий эффект, который помогал в каком-то смысле масштабировать собственную боль и перестать винить себя за то, что с тобой сделали другие люди. За то, что сделал Гарин. Ли поняла, почему Марта хотела, чтобы она походила на эти сеансы – они действительно помогали не замыкаться в себе и принять себя через опыт других людей. Встречи носили не только терапевтический, но и воспитательный характер, помогали избежать крайностей, в которые часто впадают люди, хранящие в душе страшный опыт – они, встречи, были как будто напоминанием о том, что страдания, – это не то, чем следует гордиться, и что в позиции «никто и никогда не сможет понять, что я пережил/а» нет ничего возвышенного и благородного; напротив, такая поза обычно не вызывает у окружающих ничего, кроме неловкости. Теперь Ли понимала, что известная и заезженная до дыр цитата из Ницше «что не убивает – делает тебя сильнее» – это полная херня; у страданий нет шкалы качества, они не очищают, не закаляют и не делают тебя лучше; ты просто учишься жить дальше – с вечной поправкой на новый опыт, вот и все; или не учишься, и тогда тем хуже для тебя.
За три года терапии Ли научилась многому, но кроме прочего – теперь она умела безошибочно распознавать на улице людей, нуждающихся в помощи. Подъезжая к дому Тесея, она все чаще замечала парней или девушек, стоящих на тротуаре, через дорогу, разглядывающих торчащую из крыши яхту, читающих что-то с экранов смартфонов, словно сверяющих адрес. Человека с культовым опытом – или сбежавшего из культа, – легко опознать по внешнему виду: болезненная худоба и бледность – главные признаки; все жертвы культов сталкиваются с нарушениями в первую очередь сна и питания. Ли хорошо помнила, как почти сразу после переезда в Колумбию у нее начались проблемы с желудком; из-за постоянного стресса и страха не угодить Гарину у нее – как и у всех его студентов – быстро пропал аппетит, и она целыми днями питалась в основном бананами: три штуки в день, на завтрак, обед и ужин, потому что Гарин сказал, что «банан – это идеальная еда, и в нем есть все необходимое организму, особенно калий» – за полтора года изматывающей банановой диеты и черного кофе на завтрак она заработала язву и так исхудала, усохла, что пришлось купить новый ремень, а потом и вовсе проделать в нем пару новых дырок, потому что джинсы на ней просто не держались. Тогда – в прошлой жизни – ей казалось, что это красиво; Гарин хвалил ее ключицы и талию, и она была польщена его вниманием. Теперь она смотрела на проходящих реабилитацию девушек и парней, похожих на героиновых наркоманов – впавшие щеки, мешки под глазами, – и вспоминала себя. Последние два года она старательно следила за питанием, вылечила гастрит и даже набрала вес – с болезненных 45 до разумных при ее росте 56 кг – и теперь чувствовала себя нормально и, глядя на старые, вручную проделанные дырки в кожаном ремне, не могла поверить, что когда-то могла застегнуть его на крайнюю дырку.