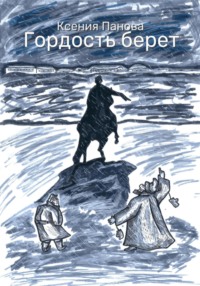Полная версия
Накипь
– Ваше предложение в два раза превышало смету, – кисло ответила та.
Маленькое, невзрачное и почти незаметное существо, она обладала одним единственным талантом – крепко сидеть на своем месте.
Петухов наклонился к ней, словно собираясь вылезти из собственной шкуры:
– Голубушка моя. Мне ли не знать, что там у вас на смету легло, а что на крышу.
Докучаева не ответила и, поджав губы, сделала маленький глоточек чаю.
Курицын попытался сменить тему.
– Кто идет на корпоратив? – спросил он.
– Все идут! – за всех ответила Печенкина, и личико ее сразу просветлело от приятных мыслей. – Сергей Сергеич, вы идете?
– Да! – отмахнулся от нее Петухов и снова нашел взглядом Докучаеву. – Вот я бы посмотрел, если бы на вас или вашего Никиту крыша рухнула!
Докучаева так и подпрыгнула. Пятнадцатилетний олимпиадник Никита был отрадой и гордостью материнского сердца.
– Да оставьте меня в покое! – возмутилась она. – При чем тут я или мой сын?
– Просто так, для примера…
– Для примера возьмите сына какого-нибудь Иван Иваныча! Среди нас такого, хотя бы, нет. А моего Никиту не троньте! Зачем вообще приплетать кого-то из нас? Это просто неприятно!
– В самом деле, – вмешался Курицын, – это уже перебор.
И, не дав Петухову опомниться, он спросил:
– А что, «крестный ход» был в этом году?
– Конечно, – ответила Печенкина. – Отец Афанасий приходил, все кабинеты обошел, все освятил. Молитву о коммерческом успехе прочитал…
– Отец Афанасий – это мастер заговаривать ячмени и чирьи? – перебил Петухов.
– Чирьи?.. – брезгливо переспросила Печенкина. – Нет, никакие чирьи он не заговаривает. Он только заговорил пальчик Лампушке.
Лампушкой – Евлампией – звали дочь Жулина. О неприятности с ее пальчиком так или иначе знал весь офис. Шестилетняя Евлампия прищемила мизинчик на левой руке, и хоть палец своевременно обработали и перевязали, ранка загнила. Отрастающий ноготок пришлось дважды снимать и чистить гной. Дело пошло на лад только, когда отец Афанасий обрызгал палец святой водой и пошептал молитвы.
Все знали, что Жулин Петр Петрович человек набожный. В дни поста сотрудники, питавшиеся в офисе, получали на выбор, помимо обычного меню, гречневую кашу с грибами, морковные котлеты, овощное рагу и прочую постную пищу. Говорили, что он выстроил на свои деньги храм на севере города. Короткая иконописная бородка очень шла к его лицу.
Ежегодно, прямо перед Пасхой, Жулин на свой счет устраивал торжественное освящение офиса, в народе получившее название «крестный ход». Каждую последнюю пятницу апреля поп в рясе, густо чадя кадилом и брызгая кропилом, проходился по всем помещениям, не пропуская ни кухню, ни кладовку, ни клозет.
Дверь приоткрылась, и внутрь заглянула Точина.
– Константин, можешь идти, – бросила она и снова исчезла.
Архипов вскочил и, спотыкаясь о стулья, подвернувшиеся на пути, выбрался в коридор.
Когда он вошел, Полежевский все еще сидел у Жулина. Видимо, речь между ними шла о чем-то приятном. Обрывки смеха, как крошки после вкусного обеда, висели у них на губах, оба улыбались лоснящимися ртами.
Хоть Архипову и разрешили войти, ему все равно показалось, будто он помешал, вторгся некстати и пришелся не к месту. Неловкость, которая и так всегда охватывала его в присутствии начальства, только усилилась. При этом Полежевский заставлял его чувствовать себя не менее принужденно, чем Жулин, хоть и был старше Архипова всего на пять лет. Причиной тому служила самоуверенная манера Полежевского держаться и то, что Архипов не вполне понимал его статус и роль в делах Жулина. По слухам он догадывался, что Полежевский при Жулине – что-то вроде адъютанта при генерале. Неясным оставалось, до какой степени Полежевский обладал влиянием, на которое намекали все его повадки.
На столе между Жулиным и Полежевским стоял графин с коньяком, заткнутый хрустальной пробкой, и два пустых бокала, на блюдечке лежали прозрачные дольки лимона.
– А, ты… – сказал Жулин, мельком взглянув на Архипова. – Подожди минутку. С этим делом точно все? – обратился он к Полежевскому.
Полежевский покосился на Архипова и ответил:
– Да. И я думаю, уже окончательно.
– А передумать они не могут?
– Не передумают. Как я уже сказал, мы там обо всем договорились. Проект наш.
– Ну, ладно-ладно… – перебил его Жулин. – Тогда я тебя больше не держу.
Полежевский зашевелился, неспешно встал, придержав белой, мягкой рукой галстук, и оправил пиджак. Жулин, продолжая сидеть, протянул ему ладонь. Полежевский взял ее и крепко потряс над столом.
– Сумма не изменилась? – окликнул его Жулин у дверей.
– Еще пять процентов сверху, – энергично отозвался Полежевский, уже держась за ручку. – Говорят, стало сложнее.
И видя, что Жулин не отвечает, задумчиво барабаня пальцами по столу, Полежевский добавил:
– Это вместе с приемкой.
– Попробуй уменьшить, – сказал Жулин.
Полежевский отворил дверь.
– Павел! Стой! – окликнул его Жулин.
Полежевский обернулся. Жулин задержал на нем взгляд, один из тех острых, смущающих взглядов, на которые он был так горазд. Но Полежевский ответил ему выражением доброжелательной и энергичной готовности на лице.
– Иди, – наконец отпустил его Жулин.
Архипов посторонился, дав пройти Полежевскому. Жулин поднял на него глаза, какое-то время думая о своем.
Жулину Петру Петровичу было сорок восемь лет. То есть ровно столько, чтобы считаться мужчиной в самом соку. Его крепкое, быстрое и бодрое рукопожатие как бы подтверждало собой этот факт. Он знал, что выглядит моложаво, и всякий раз, когда утром подходил к зеркалу, маленькое тщеславие улыбалось в его глазах.
К тому же это был очень ухоженный мужчина. Костюм безупречно сидел на нем, дорогая обувь блестела, тщательно выбритые щеки пахли утренним бризом. Руки Петра Петровича с коротко стриженными, полированными ногтями говорили о регулярных визитах в маникюрный салон. Размышляя, он держал эти безупречные руки перед собой, сложив пальцы домиком.
Помимо чрезвычайно ухоженных рук, он имел чрезвычайно ухоженные усы. Может быть, на любом другом лице такие усы и смотрелись бы нелепо, но на лице Петра Петровича они выглядели по-настоящему благородно, и содержались с тем же тщанием, что и руки.
Завершая набрасывать портрет Петра Петровича, скажем, что у него были голубые широко расставленные глаза. И когда этот человек, сидел, погрузившись в раздумье, и механически пощипывал великолепный ус, его лицо приобретало выражение кошачьей морды, обращенной к мышиной норе.
– Ну что? – нетерпеливо спросил Жулин. – Ты про Посадскую?
– Да, я только что из суда…
– Что там?
– Суд не удовлетворил требования.
– В самом деле? Даже так? – Жулин перестал вертеть в пальцах ручку и с проснувшимся интересом взглянул на Архипова.
– Они отказались от замены ответчика.
– Почему? Они что идиоты? – усмехнулся Жулин.
Видя его улыбку, Архипов тоже нерешительно улыбнулся и начал пересказывать детали слушания. Сначала Жулин просто смотрел на него своими длинными глазами, вникая в суть, но стоило Архипову дойти до момента, когда Вера Андроновна отказалась от замены ответчика, лицо его сморщилось, собралось в складки, и он засмеялся.
Он хотел сказать что-то, но не мог, смех тряс его, и он только махнул рукой. Отсмеявшись, он вытер слезу, глубоко вдохнул, и его снова разобрало.
Все это время Архипов стоял, недоверчиво улыбаясь и чувствуя, как у него горит лицо.
Проморгавшись и все еще посмеиваясь в кулак, Жулин сказал:
– Молодец, в конце месяца получишь премию.
Архипов понял, что разговор окончен, но все еще нерешительно мялся в дверях.
– Петр Петрович, – выдавил он, – есть еще кое-что… В общем, Петр Петрович, тут такое дело… Документы… Я их случайно потерял… то есть уронил… я уже звонил нотариусу, это займет время… И…
Жулин, смотревший на него покрасневшими от смеха глазами, держа кулак у рта, вдруг снова засмеялся. Продолжая смеяться, он отпустил Архипова, крикнув ему вдогонку:
– Закажи дубликаты!
Архипов выскочил за дверь в состоянии непонятного лихорадочного возбуждения, с бессознательной улыбкой на губах и красными, еще не остывшими пятнами на щеках. У лифта он налетел на главу договорного отдела – Павла Полежевского. Полежевский охорашивался перед зеркальной поверхностью лифта.
Самой заметной чертой в лице Полежевского была его мясистая нижняя губа. Губа-сластена, говорившая о хорошем аппетите, красная, веселая и блестящая. Ростом он не отличался, зато под одеждой уже наметилось небольшое самодовольное брюшко. Так как Полежевский был еще молодым человеком, то и брюшко было молодое, но все говорило о том, что со временем оно превратиться в настоящее поместительное брюхо.
Обернувшись и узнав Архипова, он неожиданно обратился к нему:
– Ну что, с Посадской улажено?
В другой раз Полежевский, наверняка, не заговорил бы с ним, даже не заметил бы его. Но им как будто тоже владело какое-то приятное, радостное чувство. Он улыбался тайной улыбкой, больше обращенной к себе самому, чем к Архипову. И заговорил, просто чтобы дать выход радости.
– Да, – ответил Архипов, чувствуя, как его собственное воодушевление тает, оставляя привкус кислятины.
– Еще бы! – усмехнулся Полежевский и скрылся за дверцами лифта.
Воодушевление Архипова окончательно пропало, и теперь он даже не понимал, почему испытывал его, а гадкий вкус – вкус всего, что случилось с ним за день – сделался сильнее.
Он спустился на лестничный пролет и, присев на подоконник, набрал Риту. Рита молчала. На улице начинал накрапывать дождик, и все вокруг становилось беспросветным и серым.
Глава 3
Прибывающие поездаВсе суета! – сказал царь Соломон. И, должно быть, зевнул, отходя ко сну.
Архипов, измаявшийся, истомившийся за день, уснул мертвым сном, едва добравшись до постели.
А вместе с ним уснули сады и скверы, уснули дворцы и фонтаны, уснул бронзовый Петр и Нева под его рукою. Все думы и тревоги спят до поры. И лишь угрюмое, бессонное небо бодрствует над городом. Это самый унылый, самый безлюдный час, который превращает все: и дома, и прохожих – в серые тени. Но минует он, и небо добреет. Становиться молодым, румяным и свежим.
Рождается новый день, а вместе с ним рождаются новые надежды. Вот они идут по улицам, большие и маленькие, заглядывают в окна горожан, тихо дышащих во сне. Надежды говорят им: сегодня все начнется заново, и день, и жизнь.
Сегодня все как-нибудь решится, как-нибудь устроится, как-нибудь сбудется.
Сон так сладок сейчас.
Спит Архипов.
Спит крепким, молодым, всепобеждающим сном. Он заломил руку за голову и приоткрыл рот. На его лице разомлел сонный румянец. Не будем его тревожить.
Перенесемся лучше туда, где никогда не спят – на железнодорожный вокзал.
Здесь пищат электромагнитные рамки, сквозь двери в вестибюль задувает сырой утренний ветер, пассажиры тащат поклажу и, отдуваясь, кидают ее на ленту. Грохочут колесики чемоданов, голос из репродуктора без перерыва возвещает о прибытии и отправлении поездов, в привокзальных лавчонках идет мелкая торговля. Какие-то толпы текут туда и сюда. Сталкивается, смешивается между собой многоликое столпотворение.
В зале ожидания клюют носом, зевают и смотрят на часы. Тянется скучное время. Ждут поезда, который рассовав по плацкартам и купе многоликую, многоголосую толпу повлечет ее куда-то сквозь поля, леса и степи, мимо жидкой поросли березок, мимо влажных туманчиков в низинах, мимо мелко-пестрых цветочков, сиротливо жмущихся по склону насыпи, мимо серых домишек, мимо километров и километров безлюдья, заговоренного одними только елями. Мимо всего, что вместе зовется Россией, и все не кончается, все влечется куда-то.
Нечем развлечься в зале ожидания. Все опротивело к пяти утра. Лица серые от недосыпа, рты тянет безжалостная зевота. Вот бы смориться сном, забыться хоть на пару минут. Но вместо этого снова и снова обводишь мутным взглядом соседей, и мысли медленно текут в голове, как подходящий к вокзалу поезд.
Вот дремлет перед тобой какой-нибудь Иванов Иван Иваныч. Голова упала на грудь, губы пофыркивают во сне, ослабевшие руки обнимают сумку. Остатки седых волос ласково поглаживает ветерок. Видно, что Иван Иваныч крепился-крепился, но не выдержал, сник, и сон, как смерть, навалился на него. Словно все недо́спанные сны за всю жизнь одолели его.
Так же точно спит он и в театре, и на концерте, куда его, выглаженного, выбритого, привела жена. Погас свет, актеры вышли на сцену, и веки Иван Иваныча сами собой сомкнулись, разгладилось лицо, на лице замерла безмятежность. А где-то через ряд от него спит Иван Николаич, а за ним – Иван Петрович, пока жена не дернет его за рукав. Тогда Иван Иваныч, а, может быть, Иван Николаич или Иван Петрович, разлепит свои сонные веки, обведет взглядом и зал, и сцену, и переменит позу в мучительной попытке не спать.
Так беспробудно научился засыпать он в любую минуту, на любом привале. Красть часы, минуты и даже секунды сна, украденные у него.
И наш Иван Иваныч не хорош. Лицо его изношено, на голове – пакля, в фигуре – дряблость, да и одет он черте как – во что-то серое, синее или, на худой конец, коричневое. Ходит, сутулясь, волочит ноги, в зубах у него вечный недосчет. За собою не следит.
Не то, что какой-нибудь человек из города Бордо. Тот всегда красив, прям, ухожен. Рот его улыбается белыми зубами, на голове – волосок к волоску, на лице – загар. И до чего элегантен этот человек из Бордо: от костюма до ботинок любуешься им. А впрочем, может быть, дело в климате… Да, Иван Иваныч… Что поделать…
А ведь и ты когда-то был не Иван Иваныч, а просто Ваней Ивановым. Из тундры, из лесов, из многокилометрового безлюдья, заговоренного одними только елями, привез тебя поезд безбородым, прямым, стройным, и вытряхнул на платформу вместе с твоей большой сумкой и большими надеждами. И вот встал ты, Ваня Иванов, посреди многоликого столпотворения, куда податься? Налево идти, направо, прямо?.. Да куда бы не идти, авось, дорожка выведет.
Какой-то дальний родственник встретил тебя на вокзале и, чтобы не молчать, заговорил о том, что было вашим общим, а теперь стало ничьим.
– Ну что там наш драм театр? Еще стоит?
– Нет, закрыт уже давно.
– Ну а кинотеатр «Заря»?
– Нет, там теперь магазин «24 часа».
– А, ну-ну, жалко… Ну, а ДК имени Горького?
– Сгорел.
– А бараки? Черные такие? Возле трамвайной остановки?
– Стоят! – обрадовался ты. – До сих пор стоят.
– И что, люди в них? Живут?
– Живут, до сих пор живут.
И пошла жизнь. А что? Не хуже других жил, работал, женился, родил детей. Дети выросли – стал подыскивать себе домик – дачку. Отдохновение души. Чтобы и огурчик, и помидорчик, и банька, и речка… Эх! Коротка жизнь!
Не дождется тебя твоя дачка, твоя банька, твоя речка.
Светает. Едут-едут поезда из тундры, из лесов, из заговоренного елями русского безлюдья. Везут поезда юных мальчиков. Навстречу мостам, навстречу колоннам, навстречу взнузданной каналами воде. Навстречу неясным надеждам. Не так у нас все будет, не так – думают мальчики под светом нового дня.
Кончен сон. Просыпайся, мой герой!
Глава 4
Дом РастопинойБыло утро субботы. Лопухов Артур Николаевич, риелтор, съел свой завтрак, отыскал ключи от машины, кряхтя, надел ботинки, и поехал на встречу с клиентами.
За рулем он зевал и почесывал бок. Солнце слепило его опухшие со сна глазки, и он морщился, перекашивая рот в зевоте. Его просили о ранней встрече супруги, подыскивавшие жилье для своей дочери-студентки.
На Моховой Лопухов припарковался, вылез из машины и, все так же жмурясь и зевая, направился к своему «подопечному» – дому Растопиной. «Подопечными» он называл те дома, квартиры в которых сдавал или продавал.
Артур Николаевич был невысок, но крепок телом, здоровье имел отличное, дух – неунывающий. Его «подопечный», ростом в пять этажей с башенкой, казался хлипким и немощным, лоб его стягивала зеленая сетка, бок закрывала заплатка. Крыша, вся в пятнах ржавчины, в сильный дождь давала течь, и бедный «подопечный» стоял в лихорадочной испарине, сочась нездоровой зеленоватой сыростью.
Когда-то этот дом принадлежал купчихе Растопиной, вдове купца первой гильдии Федора Несторовича Растопина, о чем охотно, с болтливостью пьянчужки, сообщала каждому встречному табличка на фасаде.
Купчиха Растопина была последней владелицей дома. Жила она тем, что сдавала меблированные комнаты и ссужала постояльцев деньгами. Злые языки говорили, что со своих жильцов она снимала пенки дважды.
Всего этого, конечно, не было написано на табличке, но стоявшая перед ней супружеская пара разглядывала ее с таким вниманием, как будто бы было.
– Здравствуйте, – поздоровался Артур Николаевич. – Я Лопухов.
– Здравствуйте, – ответил его клиент. – Я Василий Иванович, а это моя жена – Марина Михайловна.
И у Василия Ивановича, и у Марины Михайловны настроение было самое благодушное. Оба вежливо улыбались и с любопытством вертели головами по сторонам, выдавая в себе приезжих.
– А вы не подскажите, к какому архитектурному стилю принадлежит этот дом? – спросила Марина Михайловна.
– Этот?
Лопухов задрал голову, моргая, посмотрел на окна верхнего этажа, затем спустился взглядом ниже, к просевшему фундаменту, и, словно прикинув что-то в уме, сказал:
– Необарокко. Да, определенно, необарокко. Видите вот этих кариатид?.. Точнее сейчас вы их, конечно, не видите – сетка мешает, но, если присмотреться, очертания проступают… – и Артур Николаевич изобразил рукой в воздухе неопределенные очертания.
– Наша дочь Оля будет учиться на реставратора, – пояснила Марина Михайловна. – Мы сами из Нижневартовска. Вот подыскиваем ей жилье…
– Ну и молодцы, ну и правильно, а то ведь к осени понаедет этих студентов, цены поднимутся… – ответил Лопухов, роясь в кармане в поисках ключей.
– А какой архитектор это построил? – снова спросила Марина Михайловна.
– Барановский, определенно, Барановский. А, может быть, и Бенуа, точно не Монферран… Да вы сейчас и сами все увидите.
«Ага!» – он наконец-то отыскал ключ.
– Ну, идемте! Да нет же, не сюда… С парадного пока нельзя, здесь недавно что-то отвалилось… Никого не убило – нет! упаси боже! – но небезопасно, сами понимаете…
И он провел их мимо забранного сеткой парадного с попавшими в невод кариатидами, через чугунную калитку в арке.
– Там с бочка будет вход… – глухо вещал он из полумрака подворотни. – Не наступите! – тут лужа…
Они оказались во дворе. И хоть смотреть здесь особо было не на что, папа студентки Оли, Василий Иванович, с вниманием и некоторым изумлением изучал ближайшую стену и единым взглядом успел охватить и облупившуюся штукатурку, и большое зеленое пятно, карабкавшееся вверх, к карнизу, и повисший в сетке, словно перебитая рука в гипсе, чей-то маленький балкончик. Потом его взгляд поднялся выше, к клочку неба, пойманному в прямоугольник двора, снова спустился вниз и наткнулся на подозрительную лужу возле стены. «Да…» и «Хм…» – все, что он сказал.
– Дом входит в список культурного наследия ЮНЕСКО, – живо отозвался Артур Николаевич. – Он хоть и исторический, но хороший, сухой, и лифт есть.
«Угу» и «Хм, хм…» – ответил Василий Иванович.
– И оцените, как удачно расположен: до Летнего сада рукой подать, а до Штиглица вашей дочке вообще будет два шага.
– Мы, собственно, поэтому и выбирали… – робко вставила мама студентки Оли, Марина Михайловна. – Хотя есть, конечно, общежитие…
– Да в этом общежитии они чему только не научатся! – сказал Артур Николаевич. – А здесь все-таки отдельная комната, и все совсем близко.
Пока он говорил, откуда-то появилось три кота, черный с белым ухом, черный с белой грудкой и черный с белой лапкой. Коты сели в трех разных углах, глядя на посетителей немигающим взглядом.
– Кстати, обратите внимание, здесь водятся коты, – Лопухов со значением посмотрел на своих клиентов, но не найдя в их глазах понимания, объяснил:
– Это значит, что крыс нет! А то бывает такую тварь увидишь – размером с собаку, честное слово!
И говоря это, он шагнул в маленькую, едва приметную дверцу, отворенную настежь. Родители студентки Оли шагнули за ним.
Некоторое время они ничего не могли различить в темноте, и слепо следовали за голосом своего проводника.
– Посмотрите вниз, на плитку, – вещал Артур Николаевич из черноты, голос его гулко отскакивал от стен. – Это подлинный германский метлах.
Щурясь и моргая, родители будущей студентки Оли опустили глаза. Артур Николаевич упал на колени и, сунув голову куда-то в угол, объявил:
– Здесь даже клеймо сохранилось.
– И что там написано? – спросила Марина Михайловна.
– «Виллерой и Бох» – фирма, существующая и поныне. Впечатляет, правда?
– Да-да, – согласилась Олина мама.
Их глаза уже привыкли к полумраку, и из этого полумрака на них выдвинулось величественное видение широкой, высоко вьющейся лестницы с чугунными перилами. Сквозь просторные проемы окон лился тусклый, похожий на саван свет.
Из-под потолка на Василия Ивановича глянуло чумазое, ни на что не похожее личико обнаженной нимфы, нос другой нимфы раскрошился, придав ей сходство с египетским сфинксом.
– Лепнина почти вся сохранилась, – не без гордости заметил Артур Николаевич. – И посмотрите, какая решетка!
Решетка, поддерживавшая перила, и правда была хороша: изящные тюльпаны с раскрытыми чашечками. Из чашечек торчали сигаретные бычки.
– Очень красиво, – сказала Марина Михайловна, – но почему такое свинство? – брезгливо добавила она, обращаясь не столько к Артуру Николаевичу, сколько к окружающему пространству и дверям квартир, но ответил ей Артур Николаевич.
– Ну, так территория общая, стало быть, ничья.
– Эх, – вздохнул Василий Иванович. При этом было не совсем понятно, то ли он таким образом выразил свое мнение, то ли хотел перевести дыхание, потому что воздух в парадной дома Растопиной являл собою смесь застоялой сырости и неизбывного табачного смрада.
– А лифт где? – спросила Марина Михайловна, когда они достигли пролета на третьем этаже.
– Да вот же он, перед вами.
Лифт помещался за металлической сеткой, между пролетами.
– Дореволюционная конструкция.
Лифт вздрогнул, крякнул, скрипнул, словно прочищая горло, и правда заговорил человеческим голосом.
– Здесь кто-то есть? – спросил лифт.
– Есть-есть, – отозвался Артур Николаевич. – А вам чего?
– Я – жилец!.. Пирожков!.. Я застрял!.. Не будите ли вы так любезны вызвать диспетчера?
– Что же ты ему не позвонишь? Там же в кабине есть кнопка.
– Я звонил, никто не отвечает, – вздохнул лифт.
– И давно ты так висишь? – поинтересовался Лопухов.
– Уже второй час.
– Наверное, скоро кто-нибудь придет.
– А что лифт часто ломается? – вмешался в разговор Василий Иванович.
– Частенько, – ответил голос из лифта.
– Ерунда! – сказал Артур Николаевич. – Не чаще пары раз в месяц.
Папа будущего реставратора Оли оглянулся кругом, снова увидел зловещую мордочку нимфы под потолком, вспомнил свою Олю, занервничал отчего-то и почувствовал сильное желание закурить.
Он почти безотчетно сделал пару затяжек, когда голос из лифта едко поинтересовался:
– Вы что, курите?
– Да, – Василий Иванович тут же вынул сигарету изо рта, едва не спрятав ее за спину.
– Немедленно уберите! У нас так не принято!
Василий Иванович в растерянности обвел глазами лестницу, где каждый чугунный лепесток, казалось бы, говорил об обратном.
– Простите, – пробормотал он и, еще раз оглянувшись и не найдя даже банки, чтобы затушить окурок, сунул его в тюльпан.
– Ну, идемте! – сказал Артур Николаевич.
– Так что, позовете диспетчера? – крикнул им вслед голос из лифта.
– Может быть, на обратном пути, – на ходу бросил Лопухов. – Сейчас не могу – работа.
– Уже почти пришли, – сказал он, карабкаясь на последний этаж. – О, Валерьяныч, здорово! – крикнул он кому-то, кого Василий Иванович и Марина Михайловна не сразу заметили из-за его широкой спины.
На подоконнике, положив нога на ногу, сидел совершенно босой человек и читал Конституцию Российской федерации.
– Здорово, клещ, – поздоровался он, не отрываясь от чтения. – Скоро всем вам, кровососам, каюк настанет, – произнес он, почесав грязный большой палец правой ноги.
– Какая статья уже? – весело поинтересовался Лопухов.
– Тридцать пятая. О праве частной собственности.
Человек поднял на него мутные глаза, плюнул через отвисшую губу на пальцы и, перевернув страницу, зачитал:
– Пункт два: «Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами».