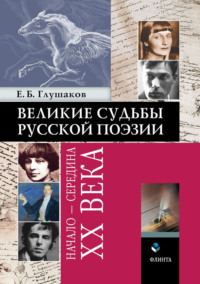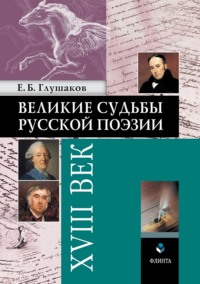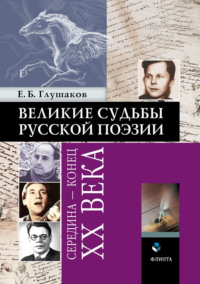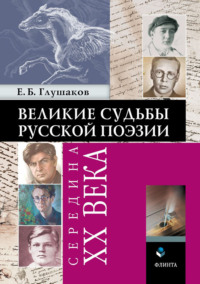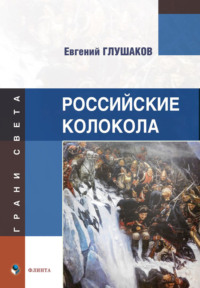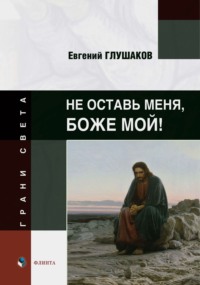Полная версия
История моей жизни, или Полено для преисподней
И там нашёл зал, нашёл секционную группу Риммы Михайловны. И напросился. И был принят. И не знал, что когда-то мне всё это очень и очень пригодится, что во всю жизнь я не устану равняться на эту всегда спокойную, подтянутую, очень красивую и непостижимую для нас, её подопечных, женщину.
Чика
Лето для меня начиналось с первого клочка оттаявшей земли. И тотчас же мы, мальчишки из гарнизонного городка, облюбовывали этот крошечный островок едва обозначившегося тепла под свою любимую игру – чику. Проводилась одна линия, на которую ставилась стопка монет – кон, а на расстоянии 10–15 шагов проводилась другая, от которой нужно было метать биту.
И начиналась игра!
Не помню, чтобы кто-то нам запрещал заниматься этаким азартным времяпрепровождением. А так как просыхало прежде всего где-нибудь на дороге или пешеходной тропе, то именно там и склоняли мы свои нечёсаные головы и нещадно колотили по медным, а иногда и «серебряным» монетам своими битами. И поскольку гремучая пожива переходила вместе с удачей из рук в руки бессчётное число раз, то монеты обыкновенно сминались и корёжились.
В качестве бит чаще всего использовались небольшие плоские камушки. Иногда, если противное не оговаривалось, можно было одну более массивную биту метать, а другой, более лёгкой переворачивать монеты.
Для метания лучше всего подходили свинцовые биты. Падая, они не скользили по земле, а если такую биту бросать плоско с незначительным наклоном от себя, то она, «вонзаясь» в землю, останавливалась, как вкопанная. «Свинчатки» были не плохи и для ударов, но только маленькие, плоские чуть больше пуговицы от пальто.
На стрельбищеС первыми весенними проталинами возникала и проблема – раздобыть свинца для изготовления бит, столь необходимых каждому заправскому игроку. Вот зачем ребятня отправлялась на гарнизонное стрельбище, находившееся тут же за оврагом – в полукилометре от городка.
Могу сказать, что солдаты, служившие в нашей части, были ни чета Робин Гуду или Вильгельму Теллю, но палили из своих винтовок почём зря и куда придётся. Пули, ими посланные, мы находили не только в земляном валу, перед которым ставились мишени, но и по всему полю между рубежом огня и этим валом.
Впрочем, и далеко в стороне по крутым берегам оврага мы тоже собирали свой весенний свинцовый урожай. Думаю, что военный историк, посетив это место, пришёл бы к выводу, что не иначе как горстка отчаянных смельчаков занимала тут круговую оборону.
Должен оговориться, что отнюдь не все найденные пули отвечали нашим интересам, но только со свинцовой начинкой. А пули, в медной оболочке которых имелся стальной стержень, вызывали разочарование. Иногда вожделенную остроконечную находку приходилось буквально выцарапывать из ещё холодной, не вполне освободившейся от снега земли.
На стрельбище мы никогда не ходили гурьбой. Два-три человека, а то и поодиночке. А поскольку весной всякий шаг чреват провалом в собравшуюся под снегом воду, домой мы обыкновенно возвращались мокрыми-премокрыми.
Что же касается меня, то, набрав нужное количество пуль, я спускался в овраг, где бурлил и пенился великолепный весенний ручей, представлявший уже одним своим стремительным полётом прекрасное зрелище. Ну, а возможность противиться его напору и строить запруды радовала ещё больше.
И я принимался обваливать нависающие берега оврага. Сгребал влажную и податливую вешнюю землю, местами попросту – песок, а также натаскивал большие камни и комья. И громоздил, громоздил, пока этот циклопический труд ни увенчивался успехом. И вот вода, удержанная моей плотиной, начинала подниматься, разливаясь всё шире и шире, что меня, конечно, веселило.
Однако же как высоко ни тянул я свою насыпь, как ни укреплял её, наступал момент, когда уже не был в силах удержать собравшуюся воду, и она, переливаясь через край, размывала плотину и с шумом опрокидывалась на своё прежнее, едва успевшее немного подсохнуть русло. И по сторонам потока сразу же прибавлялось грязной, сбившейся в плотную пористую массу пены.
Чем не металлург?Когда у меня набиралось более сотни пуль, я находил несколько металлических баночек из-под гуталина, брал с собой спички и уходил на Вознесенку выплавлять биты. Вознесенка – это небольшая, пологая, высотой сто пятьдесят, двести метров гора в окрестностях Нижнеудинска, возвышавшаяся сразу за воинской частью. Поднимался я по шоссейной дороге в обход гарнизона, проходя между его изгородью и стрельбищем.
Уже на горе, где-нибудь в кустах, находил большую жестяную консервную банку, ссыпал в неё пули и ставил в разведённый костёр. Пули нагревались, раскалялись и тогда из них начинал выплавляться блестящий, тяжело-текучий, весьма похожий на ртуть свинец, который я затем переливал в имеющиеся формочки. Когда свинец остывал и застывал, я уже безо всяких усилий вытряхивал готовые биты из форм, которыми и служили банки из-под гуталина. Теперь я был «вооружён» и мог вести успешную игру.
Монте-Карло уличных подворотнейА играли мы по всему городку: и у красных домов, когда-то в старину бывших николаевскими казармами, и среди финских домиков, в одном из которых проживал я с родителями, сестрой, братом и очень красивым псом «дворянских» кровей по имени Барс. Игра наша шла и возле деревянных в два этажа домов, что находились за незамерзающей колонкой, торчавшей из маленького отапливаемого домика. Играли мы и возле обыкновенных двухэтажных кирпичных домов, выкрашенных в белый цвет.
Играли и маленькие мальчишки 7–8 лет, и постарше – вплоть до 16–17. Причём не только дети военных, но и приходящая местная детвора с соседних улиц. Никаких драк из-за выигрыша или проигрыша, похожих на описываемое Валентином Распутиным в его «Уроках французского языка», у нас не было. Может быть, потому, что время было уже не такое голодное – конец пятидесятых?
Постоянно играя, я наловчился довольно точно метать биту, да и переворачивал монеты недурственно, а посему чаще всего бывал в выигрыше. И захаживали за мною всякого рода желающие сразиться.
Нередко стучал в моё окошко и семнадцатилетний парень из местных – Виталий Тюрин, знаменитый тем, что однажды в боксёрских перчатках пришёл в пивную драться. Я был пятью годами младше этого отчаянного хулигана, но зато куда ловчее и неизменно его обыгрывал.
Успешная игра приносила мне «солидный» доход, а поскольку я ничего не тратил, у меня скопилось рублей 30. И вот однажды, когда родители собирали посылку брату, только-только поступившему учится на мехмат Новосибирского университета, я купил на эти деньги килограмм конфет «Игрушка» и сунул кулёк в фанерный ящик, уже приготовленный к отправке.
Больше, помниться, и не играл.
Детские радости
В Сибири я блаженствовал. Летом пропадал на озере или на реке. Купался, удил рыбу или колол её вилкой на манер остроги. Разуешься и, засучив брюки выше колен, идёшь против течения по мелководью, камушки да камни приподнимаешь. Вода чистая, прозрачная.
Ан, смотришь, пищуга стоит, чуть пошевеливая плавниками. Подвёл вилку, резкое движение, и она уже на четырёх зубцах. А вот – чёрная спинка налима, стоящего почти неподвижно. Пробегающие на воде и под водой тени делают его почти невидимым. Между тем вилка уже сама тянется к вожделенной добыче. Закалываешь и налима, и тоже на низку насаживаешь. Несомненная удача и, конечно же, повод для хвастовства.
Под вечер на велосипеде дамском, который сестре принадлежал, тоже удовольствие покататься. Тогда ещё не было этих рискованных прыжков, тогда и просто проехаться по всему городку «без рук» было верхом удальства.
Хорошо выученный урокСлучалось, нам и по горе Вознесенке лазать да искать пещеры.
Ну, а если взять довольно крупный плоский камень покруглее, да поставить на ребро, да пустить под гору, уж так лихо, так весело он покатится, увлекая за собой облако пыли и прочей мелочи и с диким грохотом подскакивая, да подпрыгивая на каждом уступе.
Загляденье!
А вот рабочим, ломавшим камень для строительных нужд, этакие наши развлечения ох, и не нравились. Они ведь на склоне куда ниже нас своими ломиками и кирками долбили да ковыряли уже изрядно обветренные скалы. А в своих выгоревших робах почти и не просматривались на фоне этих тоже выбеленных солнцем отвесных каменных стен, особенно, в пору перекура или послеобеденного отдыха, когда и сами ломщики, и работа их замирали.
Однажды я, разбежавшись под гору, прямо-таки вылетел на бригаду рабочих, расположившихся под высокою, основательно измочаленной временем скалой. Они и спросили меня:
– Ты камни катал, те самые, что минуту назад над нашими головами проносились?
Увы, это был действительно я и никто другой. Но, перепугавшись, решил соврать:
– Нет, – говорю, – это Сашка.
– Что ж ты друга предаёшь, – укоризненно покачал головой сидящий на обломке известняка мужчина, – нехорошо это.
Никого я, на самом деле, не предал. Ибо кроме их и меня тут никого не было. Соврал я. Но само ощущение, что меня, пусть и несправедливо, заподозрили в предательстве, было настолько неприятным, что с этой поры и притворяться доносчиком я более не пробовал.
Что называется, урок на всю жизнь, преподнесённый самой жизнью. И даже не жизнью, а Тем, Кто её творит. Ведь не ради пустого словца сказано: «один у вас Учитель – Христос, все же вы – братья».
И уроки Его преподаются нам не за партой, не в виде унылой и скучной дидактики, но с младенчества и всюду, и везде, ибо знает Господь избранных Своих и блюдёт их, и наставляет ещё до нашего обращения к Нему, ещё до нашей веры.
«Избранные» – вроде бы с претензией сказано? Только ведь каждому доступно стать таковым. Уверуй, и ты уже – избранный. Уверуй, и вскоре с изумлением обнаружишь, что с первых дней твоих пасёт тебя самый бдительный, самый заботливый Пастырь, а наставляет самый мудрый, самый великий Учитель.
У бабушкиЛетом, даже из Сибири, наша семья обязательно наведывалась под Москву в Александров, где проживала мамина родня.
И до чего же там было хорошо!
Ещё только идём от станции, ещё только переезд переходим, а ноги так и несут, так и хочется побежать – скорее, скорее: и мимо свежевыкрашенного красивого, обширного дома, принадлежавшего цыганскому борону, и мимо садовой изгороди Буровых, наших соседей, и мимо серого с глиняными оплывшими краями пруда.
И каждая тропинка – родная, и каждый подъём – знаком, и каждый спуск – в радость. Бежишь, обогнав и маму, и папу. И брата за спиной оставляешь, и сестру. Они-то все с вещами, а ты – налегке.
Скорей, скорей!
Приподняв потайную дощечку, просовываю руку, чтобы повернуть щеколду – и через калитку во двор, и через двор – к заплясавшей под ногами, ласкающейся Найде, и, погладив её, – на крыльцо, и – в сени. И вот они милые, добрые, улыбающиеся лица. И счастье, и восторг! В этом ощущении, должно быть, и заключается вся полнота одного из самых великих и высоких чувств – чувства родины?
А иначе и говорить не о чем!
И не только для меня каждая встреча с Александровом была самой большой радостью, но и для сестры, для брата – для всей семьи. Столько тут было общего веселья, шумных свадеб и застолий, тёплых, ласковых вечеров и солнечных дней с выходами на озеро и гуляниями в Ликоуше, особенно в самый любимый местный праздник, приходящийся на первое августовское воскресение – «День железнодорожника»!
А одноэтажный барачного вида тогдашний Александровский кинотеатр как мил, как дорог уже тем, что в его узкой, вытянутой, душной темноте я впервые увидел «Белоснежку и семерых гномов» Уолта Диснея. То-то радость была, то-то чудо! А парк с качелями-лодками, взлетавшими так весело, так высоко и со скрежетом тормозившими своим тяжёлым металлическим днищем о приподнимавшуюся над помостом доску, когда оплаченное время заканчивалось.
Ну, а под вечер, в первых сумерках катание на велосипедах по бетонному шоссе, проходившему по 3-й Ликоуше. Ровненько да гладенько, да за поворотом по спуску – с ветерком. Тоже ведь – блаженство!
Вот и получается, и выходит, что этот небольшой, затёртый, как старинная монета, русский город с бабушкиным домом и садом – одно из самых благословенных мест моего детства и юности.
Озарение… или – наваждение?Полагаю, что неслучайно именно в Александрове на двенадцатом году приключилось со мной такое. Или погода не задалась, или отстал я от весёлой да шумной компании своих родственников, только вдруг ни с того ни с сего беру ученическую тетрадку в 12 листов, карандаш; запираюсь в боковушке и пишу за стихотворением стихотворение… И самым первым было:
ЛОПУХИЛопухи придорожные,Добродушно-уютные,Сколько вами по свету исхожено,Сколько вами при свете увидено?И у ночи, седой и недремлющей,Сколько спрошено было, изведано?По дорогам, как строгие дервиши,Вы бредёте, худые и бледные.Ваши платья ветрами изорваны,Породнились с дорожною пылью,Ваши ноги, босые, неровные,Ваши лица со звёздною былью.А, быть может, вы – вовсе не странники?Может быть, вы – уснувшие рыцари,Что прикрылись щитами усталымиОт боёв и дорог непредвиденных,Что искали красавицу дивную,Но старухою злой заворожены,Разбрелись на дороги длинные,Превратись в лопухи придорожные?Озарение какое-то. Правда, месяцем-другим раньше, ещё в Нижнеудинске, помог сестре сочинить что-то весеннее для районной газеты, в которой она работала. Запевные строчки придумал:
Люблю тебя за шумную весёлость.Звенит всё и поёт, когда приходишь ты.Первые строчки – первая публикация. А вот второй, уже настоящей пришлось подождать полтора десятка лет. Да и стихи по возвращении в Нижнеудинск писать перестал. Не до них. Друзей полно. Вернулся со школы и гуляй хоть до ночи. Заняться тоже было чем – хватало-таки развлечений. И не только в летнюю, но во всякую иную пору.
Сибирский календарьВзять, к примеру, осень.
На Уде – лесосплав. Вода большая, мутная. Так и бурлит, и несётся. А мы, мальчишки, прихватив из дома необходимый крепёжный материал, сколачиваем или связываем плоты из брёвен и досок, выброшенных рекою, спускаем их на воду и, отдаваясь течению, наслаждаемся его диким, необузданным бешенством.
А то прилепимся к рыбакам и вдоль берега вверх по течению переходим с места на место. Наблюдаем, как они из бурлящей воды вытаскивают бреднем рыбу и складывают в вёдра. Ту самую, до которой нам с удочками да спиннингами не добраться.
И хариусы таёжные с чёрной спинкой грамм по пятьсот, и лини, и щуки, и даже таймени! Вот, значит, какие богатства в тёмной и быстрой воде таятся?
Мы и не подозревали…
Ну, а надоест река, так мы – в лес. Бродим, жжём костры, а то и бегаем, в войну играем. Да и грибов полно, и ягод изобилие: голубика, брусника, клюква! Или на вышку деревянную, что на холме перед стрельбищем, заберёмся, сидим на щелистом, продуваемом ветрами ярусе, в «дурака» режемся. А вокруг леса – изумруд и сапфир, а вдали горы – халцедон и яшма, а вверху небо – янтарь и лазурит.
Сколько не ешь глазами, не наешься!
Зимой, конечно, лыжи!
И обязательно – в лесу. Там и красотища, и веселье! И сугробы нетронутой белизны, и нагружённые снегом ели, и горки чудные с трамплинами, да поворотами. И даже – горы! И не только с Вознесенки отваживались мы спускаться, но и с Коблука, который повыше раза в два, покруче. Хотя и находится эта гора от нашего городка много дальше. Ещё доберись до неё, дошагай, попробуй!
Однажды после катания мы с Мишкой Бабкиным, бегавшим на настоящих спортивных лыжах его старшего брата, забрели в деревеньку, расположенную при подошве Коблука и, постучавшись в ближайшую избу, попросили напиться.
Так нас, изрядно замёрзших, и в дом провели, и усадили за стол, и напоили горячим-прегорячим чаем, отрезав каждому по толстому куску чёрного кирпичиком хлеба. А налитый в большие алюминиевые кружки чай ещё и отогрел заледенелые на морозе пальцы.
Впрочем, далеко не всегда случалась такая оказия. И чаще всего с лыжных прогулок приходилось возвращаться с опущенными руками, с которых безжизненно свисали насквозь промёрзшие и заиндевевшие варежки. А лыжные палки, ременными петлями наброшенные на запястья, ненужно и безвольно волочились сзади по отстающей лыжне. И дорога под морозным, усыпанным звёздами небом казалась бесконечной.
Ну, а придя домой, первым делом, конечно же, растираешь руки, затем бежишь к постели и засовываешь их на несколько минут под высокую взбитую мамой подушку, и, наконец, отогреваешь, приложив к горячей, только что протопленной на ночь печи…
А ещё я любил и просто по дистанции десятикилометровой на лыжах пробежаться, по той, что для гарнизонных солдат отмерена и красными ленточками помечена. Случалось, и два круга в один день навертеть. Зато на соревнованиях школьных всех перегонял и финишировал обычно по чистой, чуть припорошенной нападавшим снежком, лыжне.
И на коньках по реке бегали, разумеется, в пору, когда разогнавшиеся на ледяном просторе ветра выметали её до блеска. Ну, а скроется под снегом, тогда уже по дорогам носились – благо машинами раскатаны.
Если же сугробов привалило, тогда иные развлечения. Собираемся возле Дома культуры, где после расчистки дорожек бастионы снежные в человеческий рост возведены. И вот кувыркаемся, вот бесимся. Сами в снегу валяемся, девчонок валяем. Куда как поздно по домам расходились.
Это уж точно, что «часов не наблюдали…»
Весной тоже радостей полно, весной тоже приволье! Только бы за околицу городка выбраться, а там уже делай, что хочешь. И костры жгли, и по блиндажам подтопленным в полной темноте лазили.
И вымокнем, и намёрзнемся, и нагуляемся. Хорошо было. Природа под боком. Родители на работе, а на небе солнышко и день прибывает.
Живи, радуйся!
Специально для насПо воскресениям в Доме культуры имелся детский сеанс. Дня этого и часа мы гарнизонная детвора ожидали с нетерпением. Программа вывешивалась сразу на весь месяц. И сколько же в ней было интересного, поставленного по любимым книгам! И радостное тоскующее предощущение встречи с Максимкой, Васьком Трубачёвым, Томом Сойером, как будто праздник яркий да разноцветный предстоит.
Часа за два до начала мы, дети, уже толпились на протяжённой, чуть ли не в длину зрительного зала, веранде ДК. Томились ожиданием. И, конечно же, от нечего делать, потешались друг над дружкой, ссорились, мирились, толкались, а то и дрались на кулачках, причём всегда один на один, в приблизительно равных весовых и возрастных категориях.
И не помню, чтобы кто-нибудь из взрослых вмешивался в эти наши поединки – разнимал нас или мирил. Ощущение такое, что взрослые вообще к нам на улице не приближались. Ни им до нас не было дела, ни нам до них.
Только однажды, когда я Лёне Гольденбергу, мальчику младше меня годом, за какую-то дразнилку нос разбил, прибежал его дядя и долго крутил меня где-то вверху над собою, как цирковые атлеты вертят свои многопудовые булавы. А потом ещё ко мне домой потащил, где у него с родителями стычка вышла. Чуть до суда дело не дошло…
Мой первый другИ был у меня в детстве друг – Вова Горлов. Невысокий вихрастый крепыш с пытливым чуть тревожным взглядом карих глаз. Были мы ровесниками и учились в одном классе. И во всём, и всегда был он первым да лучшим. И в учёбе, и в спорте, и во всяком-всяком деле. Этакий пример для подражания.
А при том ни капельки зазнайства или гордости. И было нас вообще-то не двое, а больше – три друга-одноклассника: Вова Горлов, Саша Фоменко и я. И мы отождествляли себя – не много не мало – с тремя русскими богатырями, что красуются на картине Виктора Васнецова. Вова был, конечно же, Ильёй Муромцем, Саша – Алёшей Поповичем, а я – Добрыней Никитичем (Не отсюда ли в дальнейшем взялось название моего футбольного клуба «Добрыня»?).
Впрочем, с Фоменко мы общались гораздо реже, уже потому что жил он в деревянных двухэтажных домах на другом конце городка и гулял больше там. А мы с Вовой постоянно околачивались возле красных кирпичных домов, в одном из которых он проживал.
Случалось и такое, что родители отпускали меня к нему ночевать. Доверяли, потому как отличник и в хулиганах не числился. Особенно нравилась нам в летнюю пору устраиваться с одеялами, подушками и простынями у Горловых в сарае, где под самой крышей помещались дощатые нары.
И уютно же там было!
И в лес мы вместе ходили, и на реку. И на лыжах бегали примерно в одну силу. И на велосипедах разъезжали. И одноклассниц наших: Люду Носкову и Люду Агееву – зимой валяли по снегу тоже вместе.
А как-то раз, играя в прятки, я, Вова и Надя Берёзкина забрались на чердак и втроём спрятались в огромном деревянном ящике. Разумеется, никто нас найти не смог. А мы и про игру забыли. Но сидя возле Нади, поочерёдно чмокали её: Вова – в правую, а я – в левую щёку. Надя же сидела тихонько и с видимым безразличием смотрела перед собой. Вроде как учились целоваться, а, на самом деле, уже в сладость и удовольствие.
Трое ребятишек имелось в семье Горловых: Вова, Игорь, который был годом старше нас, и маленькая Таня. Игорь с нами почти не общался. Мелковаты. У него была своя компания. Разве что изредка и то без особого энтузиазма перебросится с нами словечком-другим или в карты сразится.
Однажды летом, по возвращения из Александрова, болтался я по лесу и, оказавшись неподалёку от кладбища, вдруг увидел Володю, Игоря, а также их отца. И сидели они на траве у свежей могилки, расположенной между тремя небольшими сосенками. Подойдя к ним и поздоровавшись, я кинул взгляд на табличку под крестом и с ужасом понял, кто здесь лежит…
Погибла Таня нелепейшим образом. Играли ребята, бегали возле сараев. И кто-то случайно толкнул двухлетнюю девчушку, она упала и пришлась головой на торчавший гвоздь. Такая нежданная негаданная беда…
Вскоре после её смерти Горловы покинули Нижнеудинск, где всё напоминало о Тане и отзывалось болью. Уехали в Краснодарский край, на родину отца.
С Володей мы некоторое время переписывались. Но письма были бедны содержанием, вровень нашему небольшому возрасту и неразвитому уму. Вот переписка и заглохла. А дружеское чувство к Володе не проходит. И самая первая моя, детская поэма была о нём.
Где ты теперь, Володя? Жив ли, здравствуешь ли? И что с тобой стало?
На вокзал – за этикеткамиВ Нижнеудинске я увлёкся собиранием почтовых марок и спичечных этикеток. Основным поставщиком марок была наша почтальонша. Каждый день я старался её подкараулить, и мы на пару перебирали пачку подлежащих разноске писем. И всякую красивую марку отдирали, не слишком заботясь о сохранности её зубцов и внешнем виде лишившегося марки конверта. Особенно радовали заказные письма, где этих марок бывало до пяти-шести штук.
А вот на поиски этикеток я отправлялся за два моста на железнодорожный вокзал. Задымленный, весь в паровозной саже район города. Грязно. Серо. Зато этикеток полно, как и курильщиков. Мало им дыма, что ли, свистящего да пыхтящего?
Через Нижнеудинск поезда и от Владивостока, и от Москвы хаживали. А тут ещё случилось особенно «урожайное» на этикетки лето, когда мимо нас проезжали на Московский фестиваль гости из-за рубежа.
Выходили покурить, а пустые коробки бросали прямо на шпалы. Тогда на истёртых до лоска железнодорожных путях можно было найти и китайские, и монгольские, и японские этикетки. Во время этих «походов» обедал я в привокзальной столовой. Набор блюд там куда разнообразнее, чем в городке.
Зато в нашей столовке всегда имелись блинчики с повидлом, которые тут же и выпекались на большой сковороде, ибо плита находилась непосредственно за раздачей.
Обедать в общепите довелось мне с раннего детства. И всё из-за моего вегетарианства. Не зная, чем и кормить своё привередливое дитя, родители каждый день выдавали установленную сумму, и я скитался по ближайшим заведениям в поисках хотя бы мало-мальски подходящего меню.
А ещё мне нравилось приводить в нашу гарнизонную столовку своих приятелей – нагулявшихся, голодных! Тут мы брали по стакану чая и вдоволь ели бесплатный хлеб, который был разложен по тарелкам на каждом столе.
Весело, занимательно, сытно!
Кино – задом наперёдЛюбили мы и кино солдатское по воскресеньям посещать. А располагался одноэтажный гарнизонный кинозал на другом конце части под самой Вознесенкой. Перелезем через забор на территорию, подберёмся поближе к продолговатому зданию из красного кирпича и размышляем, как внутрь попасть.
И через окна пролазили, и через двери среди топающих солдат прошмыгивали. А усаживались обыкновенно за экраном на сцене прямо на полу, а значит, смотрели фильм на просвет, то есть задом наперёд. Тут нам уже и взрослые фильмы перепадало увидеть, и даже очень взрослые.
Меня вообще всегда ко взрослым тянуло. Идёшь, бывало, с роднёй, забегаешь вперёд и, оглядываясь, слушаешь с разинутым ртом. Или в отпускную пору в бабушкином доме соберутся тётки мои, да сестра старшая, усядутся да разлягутся на кроватях и начнут болтать, а я тут как тут – сижу с ними хоть целый день, слушаю, проникаюсь, соображаю. И разговоры у них были всё больше про любовь да кавалеров.