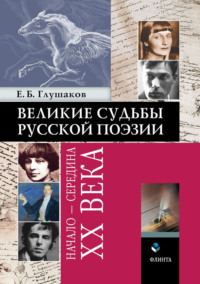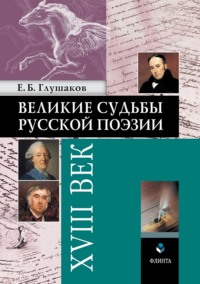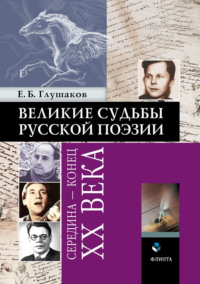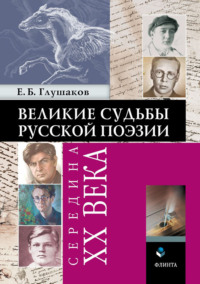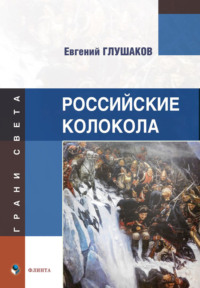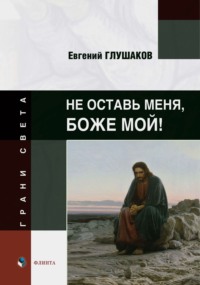Полная версия
История моей жизни, или Полено для преисподней
Могло ли случиться, чтобы старший брат не служил для меня примером во всём и всегда? Разумеется, не могло. Особенно, если учесть, что Саша, хотя и был невысок ростом, зато широк в плечах и спортивен.
Едва мы появились в Бобровичах, как к нему подошёл весьма большой и упитанный Генка Маслов, брат Тамары, и предложил:
– Давай поборемся. Я толстый. Я тебя повалю!
И к собственному конфузу тут же оказался на лопатках…
Для мальчишки иметь такого брата – немалая удача. От скольких обид и унижений избавляет. Да и каким опытом обогащает…
Ранним взрослением!
И как не любить такого брата, как им не гордиться?
ПотерялсяТеперь такое даже представить невозможно, но мы, гарнизонные ребятишки, уже тогда в семь-восемь лет бродили по лесу без всякой опаски. А был он весьма велик и простирался до самой железной дороги, проходившей километрах в четырёх от городка. Помню обилие кривоногих и сопливых маслят, россыпи тускло поблёскивавшей черники, а местами густые-пре-густые заросли папоротника, из которого я любил делать себе островерхие шапки.
И по грибы мы тогда ходили одни, и по ягоды.
Однажды зимой, когда Саша с друзьями отправился на лыжах покататься, увязался за ними и я. По ближайшим окрестностям мне и прежде доводилось бегать одному, а тут, едва поспевая за старшими ребятами, так далеко заехал, что, потеряв их из виду, перепугался. Еду, плачу. Холодно. Начал замерзать. А куда еду, не знаю. Много всяких лыжней по лесу напутано. Уже и голосов не слышно.
Густая еловая тишина.
И вдруг смотрю, бежит мне навстречу Толя Герцог, одноклассник моей сестры. Это он специально, заметив моё отсутствие, вернулся. Подбежал, отёр мои слёзы. А затем посадил вместе с лыжами и палками себе на плечи и, придерживая за ноги, повёз. Долго мы передвигались этаким образом, и всё по местам незнакомым, пока не добрались до городка. Конечно, тяжело ему было с таким громоздким и неудобным «багажом» на плечах. Однако довёз до самого дома и, поставив на ноги, попросил вынести ему воды напиться.
Дома ещё не знали, что я потерялся, но всё равно были рады моему возращению, а сестра зачерпнула из ведра полную кружку по-зимнему студёной воды и вынесла своему героическому товарищу, которому было не более шестнадцати лет.
Вот так удача!Случалось нам хаживать по грибы и всей семьёй. И во всякую зиму в сарае нашем бок о бок с эмалированным ведром, где томилась квашеная капуста, стояло другое такое же, в котором под каменным спудом плющились и коченели солёные грибы. К заготовке их мы относились весьма серьёзно.
Одна из промысловых вылазок наших запомнилась особенно. Отправились мы тогда за аэродром. Вышли затемно. Родители, брат и сестра – с вёдрами, я – с небольшой матерчатой сумкой. Иду и сплю. Встать-то встал, да не проснулся. А едва мы миновали матово-белые, укрытые маскировочной сетью утреннего тумана самолёты, как стали попадаться грибы. Не мне, конечно. Ибо я сквозь слипающиеся веки ещё и деревья-то с трудом различал.
Побродили мы, погуляли по лесу, наполнили вёдра и мою сумочку грибами и двинулись в направлении дома. Обычная просёлочная дорога. А по сторонам то лес, то поле, то луг с ещё не убранными стогами. И вот уже мы проходим возле небольшого кудрявого березняка.
И брат замечает неосторожно выглянувший на дорогу белый гриб, неподалёку от которого находит и второй. А третий и четвёртый уводят его уже и вовсе в глубину повстречавшегося нам леска. И все мы останавливаемся и радуемся его удаче. И опустив благодатные ноши на дорогу, даём отдых рукам.
Но поскольку и мне хочется найти белый, я тоже ныряю в кусты, и тоже – не напрасно! И уже всей семьёй рассыпаемся мы по густому и пышному травостою придорожной рощицы. И белых там оказывается видимо-невидимо! И появляется ощущение, что это они сами торопятся, спешат выскочить нам навстречу. Словом, творится такое, что назвать иначе, как мечтой грибника, невозможно. А вёдра-то у нас полные, а сумка-то моя с верхом. И никаких других ёмкостей в запасе!
И вот, не без жалости, конечно, принимаемся мы опорожнять и вёдра свои, и сумку, и укладывать в них новую, лучшую добычу. И выглядит это весьма бесчеловечно. Чуть ли не предательством по отношению к тем, первым нашим грибам, которые, может быть, ещё с вечера терпеливо дожидались нашего прихода, и теперь обмануты, брошены…
Перекусив и напившись холодного сладкого чая, мы продолжаем свой путанный путь к дому. Ну, а вслед нам с грустью и немой укоризной смотрят уже никому ненужные и ни на что не годные сыроежки, маслята, чернушки, подберёзовики…
Как мы потом не искали это место, чудесно одарившее нас, никогда более выйти на него не удавалось.
Родители отдыхаютПрипоминается мне уже в иной весенне-летней окраске и небольшой пикник в лесу, устроенный родителями на первомайский праздник. На траве постелено одеяло, а папа и мама блаженно отдыхают, опершись на локти и следя за моей неразумной радостной беготнёй. Тут же рядом стоит большой китайский термос с чаем и разложена нехитрая провизия.
Было это большой редкостью: и сам отдых, и посещение родителями лесной поляны, напоенной первым теплом. Ведь у мамы – то приём в поликлинике, то хождение по вызовам, то дежурства по «скорой», у отца – то занятия с курсантами, то подготовка к ним, то занятия, то подготовка…
А сколько довелось им пережить, перестрадать! И горькую довоенную нищету, и ужасные военные годы, и смерть дочери Наташи, и смерть сына Аркаши, не доживших до моего рождения. Да и первая послевоенная пора…
Вот ведь и отдых был тогда исключительно детской привилегией. И лес Бобровический разве не принадлежал исключительно гарнизонной ребятне?
Надо сказать, что семья наша жила изолированно. Сами гостей не принимали и в гости не ходили. Только при редких встречах с родственниками отводили душу. Мудрено ли, что мы, дети, переняли родительский обиход? Тоже живём замкнуто, без обмена визитами.
А в мире, где всё решается связями и знакомствами, этакий домашний покой – роскошь непозволительная. Ведь за гостеприимным праздничным столом сегодня и решается большинство взрослых вопросов и проблем.
И то хорошо, что на время жизни нашей не пришлось ни глобальных войн, ни революций, ни кровавых репрессий. Тишь да гладь. В этом, конечно же, великая Божия милость, давшая успокоение и отдых вконец измученной, исстрадавшейся земле.
Но мы-то, мы-то до чего аморфны, рыхлы. Так и светимся постыдным самодовольным равнодушием. А вот глаза родителей наших никогда не покидала душевная боль, как последний трагический отблеск того страшного и жестокого, что выпало им пережить.
Мальчишечьи забавыВ Бобрах у меня ещё не было своих коньков. Но зато я имел право брать дутыши на ботинках, принадлежавшие сестре, надевать их прямо поверх валенок и кататься. Особенно мне нравилось скользить по замёрзшему болоту, что за гарнизонной баней.
Однажды, вычерчивая по ещё свежему новорожденному льду белесые узоры и радуясь его приятному поскрипыванию, я… провалился! А поблизости – никого! Но на моё счастье место оказалось неглубоким – не более чем по пояс. Не без трудностей выбрался я из ледяной воды и мокрый побежал домой, уже предчувствуя, что непременно заболею. Однако ж нет. Обошлось. Верно у меня, какая-никакая, а уже имелась закалка.
А вот в хоккей мы в ту пору играли без коньков. Носились в валенках по утоптанному снегу перед домами и гоняли маленький упругий мяч. Клюшки у нас были самодельные, вырезанные из молоденьких с характерным сучковатым закруглением берёзок. Но азарт был настоящий. С беготнёй, толкотнёй, криками и забитыми голами!
Ну, а летом футбол и волейбол на пустыре, опять же неподалёку от дома, и самодельные городки – в лесу, на полянке, специально оборудованной взрослыми. И купание в пруду, расположенном возле железнодорожной станции «Горочичи». Не близко. Но так притомишься в дороге, намаешься, что и мути жёлто-зелёной, которой – всего-то по пояс, несказанно рад…
В банеКаждую субботу я отправлялся с отцом в баню. Было там всегда многолюдно, шумно и грязно. Кто сам не бывал в общественных банях, могут получить о них вполне точное представление по рассказам Зощенко и «Запискам из Мёртвого дома» Достоевского.
Всё те же неизменные проблемы с незанятым местом и свободным тазиком. Да и голоштанная суть всё та же. Можно сказать, развлечение для бедных. Но это в прежнюю, дикую пору. Теперь, вероятно, всё выглядит если не иначе, то хотя бы по-другому…
Сначала мы с отцом тёрли друг другу спины и мылись самостоятельно. Потом отец мыл мне голову. Затем, набрав по тазику ледяной воды, мы отправлялись в парилку, где в густом влажном пару уже непременно восседало несколько человек и хлёстко обмахивалось берёзовыми вениками.
Полок было четыре. Шероховатые, мокрые, они поднимались высокими деревянными ступенями, и, делаясь всё менее и менее различимыми, исчезали где-то под потолком, отчего парившихся на самом верху вовсе не было видно за густой толщей горячего-прегорячего пара.
Отец, случалось, поднимался и на четвёртую полку, а для меня и первой было много. Воздух был настолько жарок, что я наклонялся над тазиком с холодной водой и буквально приникал к ней широко раскрытым ртом. Так легче дышалось. И, конечно же, непрерывно оплёскивал себя, зачерпывая спасительный холод сразу двумя ладонями.
И как же я радовался окончанию мучительной процедуры, когда мы буквально, как ошпаренные, выскакивали из парилки и выливали на себя ещё по тазику ледяного блаженства. После чего выходили из моечного отделения и неспешно одевались. И уже на выходе всякий раз выпивали в банном буфете: отец – кружку пива, а я – стакан розоватого пенящегося крюшона.
Однажды, только-только вернувшись в раздевалку, мы застали начальника части полковника Ерёменко, уже в белой байковой рубахе и кальсонах. Он сидел на лавке и, как положено первому лицу городка, не один, а в подобострастном заискивающем окружении. И поза его, исполненная гордой снисходительности, была почти величественна.
Обменявшись с отцом обычным банным приветствием «С лёгким паром!», Ерёменко добавил что-то начальственно-шутливое и отец, вынужденный задержаться на входе, что-то ему ответил и тоже в шутку.
При этом он стоял, а тот сидел, при этом отец был раздет, а тот уже в нижнем белье. И холуи, окружавшие своего высокомерного начальника, угодливо смеялись. И было мне горько и жалко смотреть на папу в таком невыгодном для него положении.
Замечу, что отца в части не любили. Должно быть, за то, что он никогда никому не позволял над собой издеваться и на всякую подлость давал отпор. Ну, а в ответ рикошетом перепадало и нам, детям.
Письма пишет?Однажды, когда я подходил к дому, меня остановили мужчины, сидевшие на лавочке перед подъездом. И один из них обратился ко мне:
– Скажи, жидок, чем занимается сейчас твой отец? Письма пишет?
Придя домой, я сейчас же сообщил отцу об очередном оскорблении в наш адрес. И он, конечно же, не оставил обидчика без наказания. Написал рапорт, и остряку, захотевшему посмеяться над семилетним мальчишкой, пришлось за шутки свои публично извиняться.
Сколько помню, папа всегда находился в постоянной борьбе за свою честь и вообще за справедливость. Он и билета партийного лишился именно в силу присущей ему принципиальности. А случилось это в тридцатые, после насильственно проведённой коллективизации, когда вожди были вынуждены признаться в допущенных перегибах.
И вот на одном из партийных собраний отец, в ту пору ещё совсем молодой, не семейный, поднялся и спросил, почему партия эти перегибы допустила, куда смотрела?
На него тут же принялись кричать: дескать, как он смеет осуждать партию. Тогда отец, недолго думая, подошёл к президиуму и положил на стол свой партийный билет. И, сколько его потом не уговаривали взять билет обратно, остался твёрд. И происходило это в самый разгар сталинских репрессий.
Невольно сравнивая себя с отцом, вижу, как я слаб и ничтожен. Сколь много всякой неправды и несправедливости творилось на моих глазах, и я пасовал перед ними. Сколько унижений и обид было мною проглочено из равнодушия, лени или страха.
А мой, может быть, ещё более слабый, ещё более беззащитный отец оставался бесстрашен и нетерпим ко всякой подлости и всякому лицемерию до последних дней своей жизни. И, даже будучи глубоким под девяносто лет стариком, случалось, вставал на мою защиту. Стыдно и больно об этом думать, горько – понимать.
Обратился к самому ВорошиловуЗамечу, что справедливость едва ли является чем-то насущно необходимым в армии. Куда важнее дисциплина и субординация. Без них армия – не армия, а дискуссионный клуб.
Поэтому стезя военного связиста не совсем соответствовала вспыльчивому бескомпромиссному характеру отца, наделённого гипертрофированным чувством правды. И когда начальство предприняло попытку уволить строптивого майора, ему, может быть, следовало покориться и перейти на гражданскую службу.
Только мог ли отец стерпеть подобный произвол?
Поехал в Москву, добился приёма у Климента Ефремовича Ворошилова, и происки неприятелей развеялись как дым. Этакая бойцовская, исполненная достоинства и отваги натура.
Выходит, что в армии отцу было самое место, хотя бы в качестве мужественного примера для курсантов-лётчиков, которым он преподавал. Особенно в начале сороковых, когда прямо из учебных аудиторий они отправлялись на фронт, чтобы в смертельном бою поддерживать надёжную радиосвязь с эскадрильей, с полком, с Родиной.
«По долинам и по взгорьям…»Деревня «Бобровичи», где я учился в школе, располагалась примерно в двух километрах от воинской части за безлесным холмом, на пологой ямистой макушке которого стоял отслуживший своё и уже частично разобранный самолёт.
Весной и осенью мы покрывали это расстояние пешком. А зимой туда и обратно нас доставляла военная грузовая машина «ЗИС», крытая брезентом. Родители гарнизонных ребятишек дежурили на ней поочерёдно.
Помню, как в нашу очередь мы с мамой, встав раньше обычного, отправились за машиной в гараж. Было темно и морозно. На капоте грузовика красовался стёганый не то «намордник», не то тулупчик. Это для утепления мотора. Иначе в такой холод не завестись. В этот день я ехал с мамой в кабине. На редкость удобно, тепло и, главное, почётно.
В особенно студёные дни все рвались занять места в глубине кузова, поближе к переднему борту. Ну, а когда потеплей, норовили оказаться на последнем ряду дощатых лавок, чтобы не сидеть в темноте, но дышать свежим воздухом через входной проём брезентовой покрышки.
Выезжали затемно и в дороге обычно распевали песни, которых знали великое множество, в основном из популярных кинофильмов: «По долинам и по взгорьям…», «Варяг», «Шёл отряд по берегу…». Кто побойчей, затягивал, остальные подхватывали и горланили, что было мочи. Тоже не бесполезное занятие – лудили глотку.
Учился я в ту пору на одни пятёрки. Старался. И буковки выводил с удовольствием. Напишу строчку крючочков-палочек и, пока чернила не высохли, бегу к маме или к сестре, показываю: мол, смотрите, как получилось ровно да красиво! А строчка и в самом деле блестит, искриться при электрическом свете.
Красота!
Однако не всем успехи мои казались заслуженными. Помню, как мамаша моего одноклассника Саши Кулигина однажды подстерегла меня при возвращении из школы и, потребовав тетрадки, ревниво их просмотрела, недоумевая, почему отметки её сына ниже.
Клубные развлеченияВ Бобровичах между солдатскими казармами и офицерским жильём не было даже обыкновенного забора. И кинотеатр был общий, и репертуар не отличался. А поскольку на взрослые сеансы детям ходить не полагалось, мы, гарнизонная ребятня, норовили пробраться к солдатам. Случалось, часами простаивали возле чёрного, без стекла, квадратика оконной рамы, ведущего прямо на сцену. Всё решали – кому лезть первым.
Бывало и такое, что проникали в клуб заранее, прятались и терпеливо дожидались, когда начнётся фильм. Как-то раз мы, несколько гарнизонных мальчишек, притаились под фанерными тумбочками, что-то вроде пюпитров, на которых оркестранты расставляют ноты. Однако были разоблачены уборщицей. Перед тем как вымыть полы в фойе кинотеатра, стала она эти тумбочки передвигать. Тут мы и обнаружились.
Естественно, что на всякий праздник в клубе давался концерт. Выступали певцы и танцоры, чтецы и гимнасты, фокусники и музыканты. Помню акробатический номер, исполняемый силачом-офицером по фамилии Резник и двумя миниатюрными одноклассницами моего брата. Сцены они почти не касались, но живыми баранками висели на бугристой мускулатуре офицера или перекатывались по его плечам и спине. Детвора восторженно рукоплескала, а взрослые иронически улыбались.
Когда же на сцене появлялся военный оркестр, я непременно выбирался из ряда, вставал в сторонке и принимался размахивать руками, подражая движениям дирижёра. При этом едва ли не мечтал когда-нибудь и впрямь управлять такой же грохочущей, поющей и слепящей медью.
А ещё в эту пору я до самозабвения любил танцы. Приглашал самых симпатичных девочек и, высоко приподнимая ноги в такт звучащей музыке, переминался с большим старанием и неизменным удовольствием.
Однажды на новогоднем утреннике я это проделывал на пару с Ирой, которая училась вместе со мной во втором классе. И была она выше меня на голову, светловолоса, а также имела совершенно очаровательные огромные светло-голубые глаза, постоянно выражавшие изумление.
Её руки доверчиво покоились у меня на плечах, мои – у неё на талии. На обоих – серые чуть ли не до колена валенки. Уже несколько танцев без перерыва мы топтались и топтались под меняющиеся ритмы оркестрового сопровождения. Вдруг к нам подошла наша одноклассница и предложила Ире потанцевать с ней. Ира повернула голову, посмотрела на подружку с не проходящим изумлением и сказала:
– Мне с ним больше нравится.
Это был мой первый, а к тому же самый крупный танцевальный успех.
Нижнеудинск
Было мне девять лет, когда нашу воинскую часть перевели из Белоруссии в Сибирь. Естественно, что солдат перевозили эшелонами. Да и большинство офицерских семей тоже согласились совершить таковой переезд в теплушках, поскольку это было бесплатно.
В купейном закуткеОднако моим родителям показался предпочтительней купированный вагон. Тем более что нас было ровно четверо: папа, мама, брат и я – по числу мест в купе. А сестра в эту пору уже окончила школу и училась в Московском институте инженеров железнодорожного транспорта.
Впрочем, думаю, что главным аргументом в пользу более цивилизованной формы передвижения было здоровье детей. Особенно же родители опасались за меня, ещё совсем недавно переболевшего тяжелейшим воспалением лёгких. Едва выходили.
Но мы с братом, конечно же, завидовали тем, кто поехал в эшелоне. Во-первых, эшелон тянулся очень долго, чуть ли ни месяц, так что нам, домчавшимся до Нижнеудинска дней за шесть, пришлось-таки изрядно поскучать, дожидаясь друзей-приятелей. Во-вторых, в эшелоне ехали все вместе. Подолгу стояли на каждой станции, ходили в гости друг к другу.
То-то было весело!
Однако совершить такое путешествие и в обычном поезде чрезвычайно интересно. Сколько всего увидели, через какое число речек и рек по грохочущим мостам пролетели! Впечатлений – вагон! А пища, покупаемая у ресторанных разносчиков или у частных торговок на станциях, до чего же вкусна. Да и сам купейный закуток так уютен, загадочен и будоражит фантазию. Можно и лазить с полки на полку, можно и шариком надувным в волейбол играть. И шахматы, домино, шашки… Кажется, так бы ехал и ехал – целую жизнь.
Сибирь – это здорово!Издалека Сибирь выглядела холодной и дикой. Ассоциировалась с непроходимыми таёжными дебрями. Но когда мы сюда приехали, то удивились ласковым и тёплым августовским дням. Изумило нас и то, что здесь тоже произрастают огурцы и помидоры. Многие, очень многие страхи перед местами этими оказались не более чем легендой, а также следствием нашего географического невежества.
Разумеется, со временем испытали мы тут и морозы за сорок градусов, такие, что рукой до замка дверного не дотронуться – примерзает. Побывали и в тайге. Но в целом наше впечатление было однозначно: Сибирь – это здорово!
По прибытии поселили нас в деревянном одноэтажном финском домике, глухой стеной разделённом на две симметричные половины. В одной проживали мы, в другой семейство Крохмаль, главе которого в дальнейшем «посчастливилось» стать героем отцовского фельетона под названием «А ну-ка, отгадай!», опубликованного в одной из центральных военных газет.
И было у нас две комнаты с общей печкой между ними да кухня, да кладовка, да веранда. Это всё в доме. А ещё во дворе – сарай, где мы завели кур-несушек и хранили дрова. Ну, а за сараем две белых будки – уборные – наша и Крохмаль.
Топить печь нам было не в новинку: и в Бобровичах жили мы без парового отопления, и в Даугавпилсе, и в Чорткове, и в Батайске… Но прежде я был ещё мал, и принимать участие в заготовке дров не мог. А теперь подрос. Уже на пару с братом или отцом распиливал двуручной пилой, гибкой да певучей, огромные берёзовые стволы, водружаемые на козлах.
Научился колоть топором невысокие плотные чурбаны, которые при удачном попадании тут же разваливались на две стороны с коротким сухим треском, а при неудачном – требовали ещё немалой и противной возни.
А ещё у нас появился свой огород, прилепившийся к дому с теневой стороны и нами огороженный низеньким, не выше колена, заборчиком. Тут мы выращивали картошку, зелёный лук и огурцы, что очень удобно и вкусно. Причём огурцы плодились в таком количестве, что в первый же сезон отец засолил их целую бочку, десятивёдерной ёмкостью своей превышавшую все наши аппетиты.
Удивительно ли, что однажды по весне Ирка Соловьёва, наша соседка, повстречав меня возле красных домов, буквально ошарашила новостью:
– Твой отец бесплатно огурцы продаёт!
И, правда, придя домой, я застал возле крылечка небольшую очередь из гарнизонных женщин и отца, стоящего с закатанными рукавами перед бочкой и отгружающего зелёным эмалированным ковшом смятые за зиму, но всё ещё душистые огурцы домашнего посола.
Детское счастьеНадо сказать, что город Нижнеудинск, возле которого лепился военный городок, был невелик и за мизерными исключениями состоял из одноэтажных деревянных построек, заполонивших островную пряжку, образованную непродолжительным разделением Уды на два рукава.
Река была и резва, и холодна уже по своему горному характеру. И брала своё начало где-то в отрогах Саян, неровной зубчатой грядой чернеющих на горизонте.
Ну, а природа? Она хороша и в Белоруссии. И там она была нам, детям, в утеху. Но здешнее, дикорастущее и бешеным водяным потоком бегущее обрамление города оказалась просто на диво!
Да и я повзрослел, больше понимал и шире, вольнее соприкасался с этим сибирским никогда прежде невиданным чудом.
Незабвенно для меня это место ещё и потому, что именно в Нижнеудинске мне довелось заниматься лёгкой атлетикой в секции, которой руководила Римма Михайловна. Очень жаль, что не помню, да и знал ли когда, её фамилию?
Голос тихий, спокойный, мелодичный, прекрасное лицо – истинный образчик античной красоты. Никогда никого не наказывала и не хвалила. Ни любимчиков, ни козлов отпущения. Со всеми ровна, немногословна, корректна. О том, что меня считала самым способным в группе, узнал только многие годы спустя от сестры, с которой Римма Михайловна была дружна.
Спрашивается, каким образом Лора очутилась в Нижнеудинске? Дело в том, что инженерия не сумела её заинтересовать, а тем более стать призванием. Оставив ошибочно выбранный институт, сестра приехала из Москвы, устроилась корреспондентом в районную газету «Путь Ильича» и стала готовиться к поступлению на филфак Иркутского университета.
Что за случай свёл её с Риммой Михайловной, не знаю. Может быть, через кавалеров своих познакомились: кареглазого Виктора и голубоглазого блондина Славу, друживших между собой? Оба прекрасные спортсмены, в сухие летние вечера посещавшие военный городок и блиставшие на волейбольной площадке своими мастерскими «гасами», то и дело попадавшими в трёхметровую зону у сетки.
Помню, как одному из них, а именно – Виктору, отнёс я записку от сестры – аж за два моста, на городскую танцплощадку! И это на ночь глядя? Но повод был важный. Сестре настало время ехать на учёбу, и записка содержала иркутский адрес, по которому Виктор вскоре её разыскал.
Так вот, для меня Римма Михайловна по сей день является идеалом тренера, педагога, вообще человека. И как я рвался в эту секцию, как мне хотелось в ней заниматься. Такой притягательностью обладают лишь самые необходимые элементы судьбы.
Помню, как от своих друзей узнал я, что в спортивном зале Слюдиной фабрики в среду в 18 часов состоится очередное занятие. И как же я спешил туда, как бежал в зимней вечерней темноте по заснеженному льду за реку мимо иссиня-изумрудных прорубей на светлеющие впереди огни.