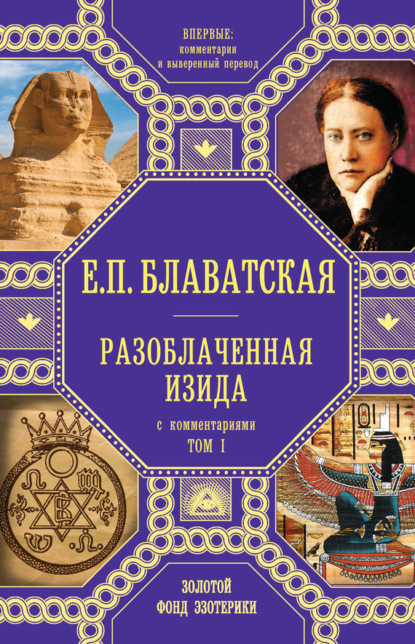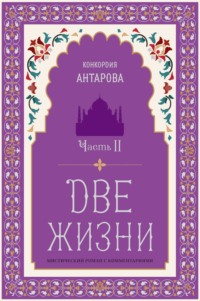Полная версия
Две жизни. Том II. Части III-IV
Бронский в этом обучении обогнал всех, и я упрекал его, шутя, что он скрыл от всех своё давнишнее умение управлять мехари. Он же совершенно серьёзно уверял меня, что единственный раз в жизни ехал на мехари, когда направлялся в Общину, и что стоит лишь мне почувствовать себя арабом – и я с лёгкостью смогу правильно управлять и собой, и мехари. Очевидно, огромная артистичность этого человека и здесь помогала ему.
После урока верховой езды, всех нас утомившего, мы отправились купаться, потом ужинать. Вечером мы пошли слушать музыку Аннинова.
По дороге к жилищу музыканта я так ярко вспоминал Константинополь, Анну, её музыку и божественный, человеческий голос виолончели Ананды. Некоторое смущение было в моей душе. Я не мог себе представить, чтобы кто-либо был в состоянии играть лучше Анны и Ананды. Я боялся, что не смогу быть достаточно вежливым внешне, как меня учил Иллофиллион, и не сумею скрыть своё разочарование перед выдающимся артистом, чью жизнь заполняла только музыка.
Как примирить прямолинейную внутреннюю правду с внешним лицемерием, если мне не понравится его музыка? По обыкновению, я получил ответ от Иллофиллиона, который без моего словесного вопроса сказал мне:
– Разве ты идёшь сравнивать таланты? Ты идёшь, чтобы приветствовать творческий путь человека и найти в себе те качества высокой любви, которые могут принести другому человеку вдохновение. Люби в нём, в его пути всё ту же Силу, двигающую Вселенной. А на какой ступени совершенства эта Сила в данный момент остановилась в человеке – это не должно тревожить тебя. Она должна будить твою энергию радости и помогать тебе нести человеку привет. Приноси цветок в его храм, как я тебе говорил не раз, и не суди о том, каков на твой вкус этот храм.
Вечером, оставшись один, я снова раскрыл записную книжку брата и стал читать вторую запись.
«Ты полон бурлящих мыслей от моих вчерашних слов. Ты не постигаешь, как можешь ты приветствовать в каждой текущей встрече Истину, вошедшую к тебе в той или иной временной форме. Многое в жизни людей тебе отвратительно. Отвратительны тебе попойки твоих соратников, их вечные игры в карты, их ссоры и мелочные интересы.
А между тем ты ни разу их не осудил. Напротив, ты сумел быть таким беспристрастным к каждому из них, что все солдаты и офицеры неизменно идут к тебе со своими вопросами, выбирают тебя судьёй чести и надеются получить облегчение в своём горе и недоумении.
Все, даже отъявленные буяны, стремившиеся поначалу задеть или запугать тебя, отходили, смирившись, после того как пытались вызвать тебя на личную ссору. Твоя храбрость лишала их всех поводов к раздорам, а сила твоей любви к человеку заставляла каждого уходить от тебя в уважении к тебе и твоему дому. Многие уходили с сознанием, что приобрели друга. Иные уходили примирёнными, другие в недоумении, но никто потом не имел желания повторить озорные выходки.
Переосмысли теперь представление о том, что любовь и Бог – это лишь одно прекрасное. Самое худшее, что кажется тебе таковым, не что иное, как та же любовь, только дурно направленная в человеке.
Любовь вора к золоту – всё та же любовь, лежащая под спудом предрассудка жадности и стяжательства. Любовь мужа к жене, любовь матери к детям – та же любовь, не имеющая силы развязать тугие ленты своих ограниченных чувств и увидеть Бога в человеке, за гранью личностного предрассудка «моей» семьи.
Переходи в своём, теперь расширенном, сознании в иные формы понимания окружающих тебя живых временных обликов людей. В каждой своей встрече прочти свой урок жизни, пойми одно: тот, кто пришёл к тебе, – самое главное и важное твоё дело. То, чем ты занят в данное «сейчас», это первое по важности – отдавай ему всю полноту сил и чувств и не оставляй каких-то частей духа и разума для дальнейшего.
Проходя свой день, неси бескорыстие своим делам, мир и гармонию людям, трудящимся рядом с тобой. Ты ведёшь жизнь целомудрия. Веди её и дальше. Но если ты думаешь, что целомудрие как таковое, как самодовлеющая сила, может возвести человека на высокие пути жизни, – ты ошибаешься. Это только одно из слагаемых, многих слагаемых духовной жизни человека, которое ведёт к гармонии и освобождённости, но само по себе не имеет цены.
Если человек полон предрассудков разъединения, всё его целомудрие не поможет ему продвинуться ни на шаг в его стремлении к совершенству. И наоборот, если человек ищет общения с Учителем и не имеет сил встать на путь целомудрия, все его попытки установить высокую духовную связь с Учителем останутся засорёнными, всегда грозящими низвергнуть его сознание в смятённые круги астрального плана.
Не задумывайся о дальнейшем. Прими сейчас задачу целомудрия как необходимое для тебя на сегодняшний день звено самообладания, ведущего к гармонии.
Нет ничего неизменного в пути ученика, всё течёт и изменяется в единственной зависимости: развитие творческих сил человека-ученика ведёт его к совершенству, в котором самообладание и гармония – первоначальные основы.
Они составляют верность ученика Учителю, они создают равновесие его духовных сил. Но, повторяю, они движутся, и нет ничего мёртво стоящего в жизни неба и земли. Силы духа в человеке развиваются и приводят его к бесстрашию.
Все мысли, приводившие тебя к духовной радости, были основой, созидавшей мост от тебя ко мне. Если бы твоё сердце молчало и один лишь здравый смысл вёл тебя по жизни, ты не смог бы прийти к тому моменту, когда увидел меня перед собой.
Отныне все твои встречи с людьми имеют только один смысл: прочесть твой собственный жизненный урок, раскрыть твоему пониманию, что мешает тебе начать и закончить встречу в радости.
Характер ученика не может складываться подобно характеру обывателя. Обыватель ищет наибольших внешних удач. А ученик ищет наилучших мыслей в себе, чтобы наполнить ими те сердца, которые пришли с ним в соприкосновение в данное летящее мгновение.
Логические доводы не влияют на духовное продвижение и не ведут к совершенствованию. Они лишь намечают путь к озарению и вдохновенному творчеству. Но сами по себе не составляют двигателей духа. Вот почему люди малообразованные могут быть мудрецами и оказаться на голову выше миллионов учёных, постигающих лишь то, что можно доказать геометрически, физиологически и иными практическими способами. Но там, где дело касается духа и интуиции, там творит только сердце. Поэтому не ищи отныне в книгах ответов на свои вопросы.
Читай книгу собственной жизни, живи по Евангелию собственного трудового дня, и ты постигнешь все йоги мира своим – невозможным для другого – путём».
На этих словах я невольно прекратил чтение, и мысль моя вернулась к пережитому за сегодняшний день. Я снова и снова видел перед собой тех людей, с которыми встречался сегодня. Лица и слова выплывали передо мной как на экране, и я чётко видел, как мало я был истинным учеником.
Чем, какими наилучшими мыслями я наполнил сегодня Вселенную? И с особой ясностью я остановился на проведённом у Аннинова вечере. Музыкант встретил нас, весь горя желанием играть. Глаза его смотрели на нас, но точно скользили по нашим лицам, не различая, кому именно он подавал свою красивую, но такую огромную ладонь, что моя рука в ней совершенно утонула.
Очень странно я чувствовал себя в зале Аннинова. Я подмечал здесь всё внешнее, все движения музыканта: как он подошёл к роялю, как поднял крышку, как расправил складки своей европейской одежды, садясь на табуретку, как, сидя, подвинтил винт табуретки, подняв её на нужную ему высоту, как он положил руки на клавиши, точно задумавшись и забыв обо всех нас.
Анна и Ананда заставляли меня забывать обо всём, кроме их лиц, казавшихся мне сверхъестественными. Здесь же лицо музыканта казалось мне некрасивым, хотя я не мог сказать, что оно не было своеобразным и оригинальным. Это было лицо аскета, сильное, жёсткое, углублённое, не допускающее равенства между собой и окружающими.
Я посмотрел на Иллофиллиона и поразился доброте, с которой он смотрел на музыканта. Аннинов вздохнул, посмотрел куда-то вверх, оглянулся кругом и встретился взглядом с Иллофиллионом. Точно блик молнии промелькнул по всей его фигуре, он вздрогнул, по-детски улыбнулся и сказал:
– Восточная песнь торжествующей любви, как понимает её моё сердце.
Нежный звук восточного напева полился из-под его пальцев и напомнил мне Константинополь. Я однажды увидел там маленькую нищенку, которая пела, трогательно ударяя в бубен и приплясывая под аккомпанемент двух слепых скрипачей.
Эта картина рисовалась мне всё ясней по мере того, как развивалась тема Аннинова. Я забыл, где я и кто вокруг меня, – я будто снова оказался в Константинополе, видел его улицы, Анну, Жанну. Я жил снова в доме князя, двигался среди стонов и слёз, молитв и благословений. И я вновь ощущал всю землю Востока с его предрассудками, опытом, страстями, борьбой.
Вот толпа женщин-рабынь, закутанных в чёрные покрывала. Вот их стоны о свободе и независимости, о свободной любви. Вот унылые караваны; вот злобный деспот с его гаремом, вот детские песни и, наконец, крик муэдзина[4].
И всё дальше лилась песнь Востока, вот она достигла дивной гармонии, и мне вспомнился мой приятель-турок, говоривший: «Молиться умеют только на Востоке».
Внезапно в музыке пронёсся точно ураган, а затем снова полились звуки неги и торжества страсти, земля, земля, земля…
Аннинов умолк. Лицо его стало ещё бледней обычного, он переждал минуту и снова сказал:
– Песнь угнетения Запада и гимн свободе.
Полились звуки «Марсельезы», мелодии гимнов Англии и Германии гениально переплетались с печальными напевами русской панихиды. Вдруг врывались, разрезая их, песни донских казаков, русские песни захватывающих безбрежных степей, и снова стон панихиды…
Я весь дрожал от неведомых мне раньше чувств любви и преданности родине и своему народу. Мне казалось, что я всегда любил родину, но тут через музыку Аннинова я по-настоящему осознал первый долг человека, о котором Али говорил моему брату, – о любви к родине.
Вот оно, своё место, особенное, неповторимое для другого, место каждого на земле; Аннинов передавал в мир свою любовь к родине, хотя покинул её давно и не возвращался туда много лет. И я понял, что дом его был не интернациональный, а русский. Дом, рана расставания с которым не заживала в его сердце.
Благоговение к его скрытым страданиям, только сейчас проникшим в мою душу, наполнило меня, и я преклонился перед этим страданием, как когда-то мой дорогой друг, капитан Джеймс, поклонился предугаданному им страданию Жанны, которое он сумел прочесть в ней.
Я понял, как я далёк ещё от бдительного распознавания, от счастья жить в признании каждого создания божественной силой. Мой дух был потрясён. Вернувшись домой, я так и не смог лечь спать и вышел в парк ожидать рассвета.
Глава 8. Обычная ночь Общины. Вторая запись Николая. Беседа с Франциском и его письма
Я возвратился в мою комнату, как только можно стало читать. Но в эту чудесную короткую ночь мне было суждено выучить ещё один великий урок. Не успел я углубиться в аллею парка, как заметил, что я в нём далеко не один.
По дальним аллеям бесшумно двигались фигуры, и когда я спросил одного из встретившихся мне братьев, ходившего взад и вперёд по аллее, ведущей за пределы парка к ближайшим селениям, не одолевает ли его, как и меня, бессонница в эту ночь, он мне ответил:
– О нет, милый брат, сон мой всегда прекрасен. Но сегодня моя очередь ночного дежурства, и я буду очень рад служить тебе, если тебе в чём-либо нужна моя помощь.
– Ночное дежурство? Но для чего оно? Разве можно ожидать ночного нападения на Общину?
– Нет, врагов у Общины нет, хотя звери иногда и забегают сюда. Дежурство братьев существует для того, чтобы подавать помощь людям во все часы суток, независимо от того, будут ли это часы дня или ночи.
– Но кому же нужна помощь ночью? – продолжал я спрашивать с удивлением.
– Кому? – засмеялся брат. – Ты, вероятно, совсем недавно прибыл в Общину. Пойдём вон к тому огоньку, куда я сейчас провёл трёх путников. Ты сам сможешь судить, был ли я прав, решив, что им нужна немедленная помощь, хотя сейчас и ночь.
Казавшийся мне крохотным огонёк, на который мы пошли, оказался на самом деле совсем не маленьким; он просто был так далеко от нас, что я принял его за маленькую лампу.
Мой спутник подвёл меня к домику, три окна которого были ярко освещены. По его знаку я подошёл к одному из окон и увидел худую, истощённую женщину в туземном истрёпанном платье, с младенцем на руках. Спиной к окну стояла женская фигура, одетая в обычное платье сестры Общины, и подавала путнице чашку дымящегося молока, хлеб с мёдом и ещё какую-то пищу, которой я рассмотреть не мог.
Внезапно сестра повернулась лицом к окну, и я едва сдержал возглас изумления: медсестрой, ухаживавшей за несчастной женщиной, оказалась леди Бердран. Стоявший возле меня брат, заметив, что я отшатнулся, решил, что я уже рассмотрел картину деятельности в этой комнате, взял меня за руку и осторожно, чтобы я не наступил на цветочные клумбы, перевёл меня ко второму светящемуся окну.
Как раз в ту минуту, как я прильнул к окну, раскрылась дверь в глубине комнаты и я увидел старика, очевидно только что вышедшего из ванны, которому незнакомый мне дежурный брат помогал надеть чистую одежду. Брат вывел старика из глубины комнаты и усадил к столу. По движениям старика я понял, что он слеп, хотя глаза его были широко открыты.
Дверь снова открылась, и молоденькая сестра ввела мальчика лет восьми, очевидно только что умытого и причёсанного, и посадила его рядом со стариком за стол. Я понял, что мальчик служил поводырём.
Через минуту та же сестра принесла обоим странникам по пиале дымящегося супа, а брат отрезал им большие ломти хлеба. Я давно не видел такой жадности, с которой накинулись на пищу старик и мальчик.
Мой спутник перевёл меня к третьему окошку. Здесь сидела женщина, закутанная во вдовье покрывало. Она крепко сжимала руками свой живот и раскачивалась из стороны в сторону, время от времени издавая сдерживаемый стон.
В комнате были две сестры и знакомый мне врач. Все они хлопотали возле женщины, усиленно ей что-то объясняли, в чём-то убеждали, чего та не могла или не хотела понять.
– Я встретил её у окраины парка и вытащил из петли её собственных кос, которыми она хотела удавить себя. Она так отчаянно мне сопротивлялась, что мне пришлось позвать на помощь ещё двух братьев. Мы втроём еле смогли довести её сюда. Я подозреваю здесь одну из бесчисленных драм вдовьего положения. Не одна жизнь уже спасена Общиной из числа жертв невыносимого социального предрассудка – индийских вдов. Али и многие его друзья борются всеми силами и с этой скорбью Индии. В дальних Общинах, среди лесов, есть детские приюты, где несчастные вдовы-матери воспитывают своих и чужих детей. Суди теперь сам, дорогой брат, нуждается ли в ночной помощи этот кусочек мира.
Он вывел меня на одну из аллей, ласково простился и вновь пошёл на дальние дорожки, продолжая своё ночное дежурство. Расставшись с ним, я остановился и стал осматриваться вокруг. Куда бы я ни повернулся, всюду, насколько охватывал взгляд, я видел маленькие огоньки, значение которых мне теперь было хорошо понятно.
Целые рои новых мыслей появились во мне. Я начинал понимать, что значит, не теряя ни минуты в пустоте, «быть бдительным» и служить встречному человеку, служа в нём самой Жизни.
Я возвратился домой и снова стал читать записную книжку брата.
«Мы с тобой прервали нашу беседу на том месте, где я характеризовал твою деятельность как служение Богу в человеке, – читал я продолжение второй записи, точно она была продолжением моих собственных мыслей. – Это путь каждого человека, ищущего духовного ученичества. Для ученика нет иных часов жизни на земле, как часы его труда, и весь его день – это радостное дежурство, которое он несёт не как долг или подвиг, а как самое простое сотрудничество со своим Учителем.
Радостность ученика приходит к нему как результат его знаний. Его до тех пор не покинут все предрассудки тяжёлых обязанностей, скуки добродетельного поведения и нудности долга, пока сердце его не освободится от мыслей о себе, о своём «я».
Лишь тогда ему станет легко, когда его глаза перестанут видеть через призму своего эгоистического «я», и только тогда ученик будет готовым к более близкому сотрудничеству с Учителем.
Как ты представляешь себе эту взаимную деятельность ученика и Учителя? Думаешь ли ты, что Учитель ежечасно направляет весь трудовой день ученика, водя его на помочах, как мать младенца, стараясь научить его ходить?
Нежность, внимание, любовь и помощь Учителя превышают всякую материнскую заботливость. И характер их совершенно иной, чем заботливость матери, в которой на первом плане стоят бытовые, чисто эгоистические заботы.
Деятельность Учителя в его стремлении охранить ученика лежит прежде всего в самом ученике, в его проявлениях чистоты. Не в том состоит забота Учителя, чтобы предложить ученику комплекс тех или иных условных возможностей и рецептов, как достигнуть совершенства, но в том, чтобы пробудить дух его к тем делам, которые необходимы именно ему для его высшего развития. Лишь в таких делах ученик смог бы сам найти весь тот Свет и истину, через которые он сумел бы понять, что знание не есть ни слово, ни учение. Оно – действие. Оно означает быть и становиться, а не слушать, критиковать, принимать то, что нравится, и выкидывать то, что не подходит под собственное предрассудочное убеждение данной минуты, а также усваивать частицу, не видя целого. Дух Учителя толкает ученика к распознаванию, к умению свободно наблюдать за своими собственными мыслями.
День за днём всё крепнет верность ученика, если он видит в каждом деле не себя, а ту любовь, которая идёт через него. Не «я» становится его бытом, но принцип «через меня». Он освобождается с каждым днём от всё большего количества предвзятых мыслей, которые коренились в его «я». И бесстрашие, бывшее раньше порывами его души и числившееся среди его добродетелей, становится тогда необходимой атмосферой его дня, его простой силой.
Не имей предрассудка отделённости от Учителя только потому, что тебя разделяет с ним расстояние. Расстояние существует до тех пор, пока в сердце живёт предрассудок одной земной жизни. Как только знание расширяет кругозор – исчезает и тень расстояния, как и тень одиночества.
Перед проясняющимся взором ученика нет гор мусора, мешающих ему видеть Гармонию. Но Гармония не зависит ни от места, ни от храмов, у которых молятся, и сама она не храм, которым восторгаются. Гармонию постигают постольку, поскольку носят её в себе.
Через внутреннюю самодисциплину человек начинает проводить в свой текущий день своё духовное творчество. Более того, он начинает по-настоящему понимать, что такое «характер», и по-новому складывает всю свою внешнюю жизнь. Если раньше он торопливо вскакивал с постели, в последнюю минуту покидал свою комнату, чтобы успеть выполнить неотложные дела, и оставлял свою квартиру похожей на запущенное логово, – теперь ему становится ясно, что окружающая его атмосфера неотделима от него самого.
Если раньше он вёл неупорядоченную жизнь, оправдывая себя наличием у него таланта, и принимал свою богемность за неотъемлемую часть артистичности, то он ничем не отличался от любого «теософа-искателя», считающего своё внешнее убожество неотъемлемым бесплатным приложением к своим исканиям, к своей теософии.
Чем шире раскрывается духовный горизонт ученика, тем дальше и яснее ему, сколько красоты он может и должен вносить в свой быт, чтобы быть живым примером каждому, с кем столкнула его Жизнь.
Простой день ученика, бдительно проводимый в труде, внимании и доброте, перестаёт быть унылыми, серыми буднями, как только задача его начинает заключаться не в том, чтобы просто «искать», а в том, чтобы «быть и становиться».
Перед глазами ученика перестаёт разворачиваться панорама одних лишь земных фактов. Его дух вникает во всё и связывает ежечасно лентами любви всё происходящее в его буднях, объединяя в единстве оба трудящихся мира: и земной, и небесный.
Чтобы суметь стать настоящим духовным учеником, тебе надо понять, принять и благословить все свои внешние обстоятельства.
Надо понять, что и тело, и окружение твои не являются плодами одного лишь нынешнего воплощения. Они всегда складываются кармой веков. И ни одно из внешних обстоятельств не может быть отброшено волевым приказом. Чем упорнее ты хотел бы отшвырнуть со своей дороги те или иные качества встречаемых тобой людей или обстоятельств своей жизни, тем упорнее они будут следовать за тобой, хотя бы временно тебе и удалось их избежать или скрыться от них.
Они переменят форму и снова рано или поздно встанут на твоём пути. Только сила любви может освободить внешний и внутренний путь человека, только одна она превратит унылый день в счастье сияющего творчества.
В начале духовного развития каждому человеку кажется, что талант творчества – это выявленное вовне могущество духа. Он не принимает в расчёт величайших неосязаемых даров: смирения, чистоты, любви и радостности, если они не звучат для него как полезная земная деятельность.
Только длинный путь труда в постоянном распознавании приводит к целеустремлённости Вечного, в каждом действии его духовного и материального творчества. Порядок внешний становится простым отражением порядка внутреннего, точно так же как каждое обдумывание нового творческого импульса не может выливаться в действие без наличия основы диалектического мышления. Если скульптор хочет отразить стремление к победе своего народа, он должен углубиться во всю его историю, должен духом прочесть невидимые страницы доблести и национальной мудрости своего народа. Он должен постичь сам, в собственном сердце, вековое самоотвержение народа, главные идеи, двигавшие его к совершенствованию, – тогда только он сможет уловить ту ноту, на которой звучит для его народа современная ему жизнь.
Лишь тогда скульптор сможет воссоздать в образах живой порыв, когда он пережил в своём сердце всю Голгофу, всю скорбь распятия, всё величие продвижения своего народа по этапам исторических мук и возвышений к тому кульминационному моменту духовной мощи нации, который он хочет отразить для истории.
Ни глина, ни полотно не выдержат экзамена и нескольких лет, если их творцы ухватили лозунг и пустили его в массу как ходкий и прибыльный товар. Их произведения займут место лишь плохой агитационной рекламы среди случайно выброшенного хлама.
В проявлениях творчества ученика, как у талантливого врача, всегда живёт меткость глаза духовного, ведущая непосредственно к интуиции. Но эта интуиция – не плод крохотного исследования, а синтез Мудрости, просыпающейся вовсе не в данный текущий момент; она – только видимое следствие многих невидимых творческих напряжений, имя которым Любовь.
Раскрепостить в себе Любовь и достичь возможности вносить её мирно и просто, как доброту, во все дела и встречи, нельзя одним лишь умственным напряжением. Свободно наблюдая свои импульсы, неустойчивость, скептицизм или жадность, можно лишь прокладывать мелкие тропки, по которым со временем двинется сила, как кровообращение нового организма.
Что такое духовное ученичество? Только путь освобождения. Можно ли считать ученичеством жизнь, если в ней нет основ гармонии? Такого ученичества быть не может. Сколько бы и какими бы путями ни искал человек Учителя, он не сможет его найти, если его мировоззрение полно легкомыслия и он наивно ожидает, что у него внутри что-то само по себе изменится, раскроется, лопнет, как гнойный нарыв, или, наоборот, расцветёт махровым цветом.
Скучнейшие «искатели» – это те, кто вечно оглядывается назад и ищет в настоящем оправдания или подтверждения тех бредней, что снились им в молодости. Величайший из путей труда – путь освобождения.
Нет ни одного мгновения, которое могло бы выпасть из цепи звеньев кармы без исполнения величайшей обязанности человека: подобрать это звено немедленно, ибо оно всегда – зов Вечности, всегда ведёт к освобождению, каким бы маловажным оно ни казалось легкомысленному человеку.
В ученике, оценившем путь не только свой, но и каждого другого, то есть понявшем важность воплощения, недопустимо легкомыслие. Это не значит, что надо идти по жизни с важной физиономией существа, выполняющего «миссию» и не умеющего смеяться. Это значит в каждое мгновенье знать ценность летящего «сейчас» и уметь его творчески принимать и отдавать.
Плоть и дух, как нераздельные клетки, не могут сочетать небо и землю иначе, как развиваясь параллельно. И чем больше раскрывается потенциал духа, тем шире освобождаются клетки тела для впитывания в себя светоносной солнечной материи.