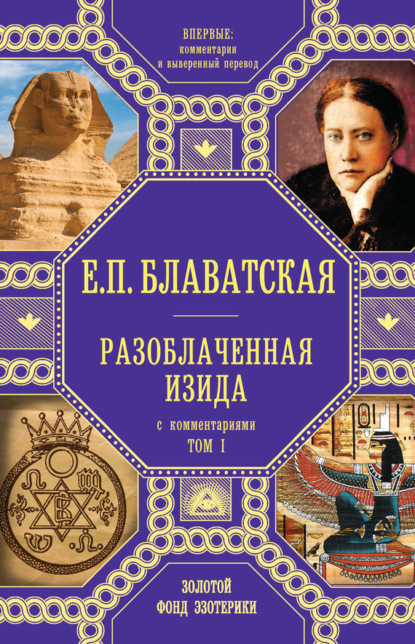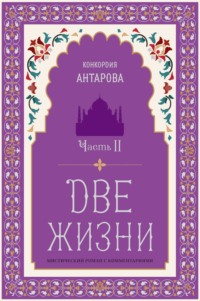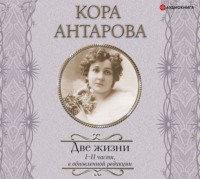Полная версия
Две жизни. Том I. Части I-II
– Радуйся находке, но войди внешне в роль светского воспитанного человека.
Тут ко мне подошёл Иллофиллион, взглянул на книги, потом на меня и весело рассмеялся.
– Теперь ты, Лёвушка, видишь, что не только ты скрывал от брата свой литературный талант, но и он скрыл от тебя свои книги. Ты всё-таки нашёл их. Теперь тебе надо скорее становиться писателем, чтобы твои книги тоже попали ему в руки. Тогда вы будете квиты!
– Вот как! Капитан Т. – ваш брат? – сказала Хава. – Тогда вам будет очень интересно прочесть его последнюю книгу, в ней есть даже портрет капитана Т.
С этими словами она быстро открыла шкаф у правой стены, подкатила туда лесенку и достала книгу в синем переплёте, подав мне её развёрнутой на той странице, где был изображён портрет брата. Он был очень похож, только лицо его было строже и серьёзнее, и на нём лежал отпечаток какой-то отрешённости.
Я прочёл заголовок: «Не жизнь делает человека, а человек несёт в себе жизнь и творит свою судьбу». Я ничего не понял, к стыду своему, – ни в одном из заголовков книг брата. Тяжело вздохнув, я поблагодарил. Взяв все три книги, я вышел в сад, где теперь сидел сэр Уоми и все остальные гости.
Подойдя к нему, я сказал печально, что все три книги брата для меня очень дороги, но они мне кажутся таинственной китайской грамотой. Я попросил у доброго хозяина разрешения взять с собой эти книги с тем, чтобы потом выслать их ему обратно из Константинополя.
– Возьми, друг мой, и оставь их себе, – ответил он. – Я всегда смогу пополнить свою библиотеку. Тебе же пока труднее, чем мне, достать их. Что же касается содержания этих книг, то у тебя сейчас такой чудесный учитель и воспитатель в лице Иллофиллиона, что он растолкует тебе всё, чего ты не поймёшь. Он тебе и о нас всё расскажет, – прибавил он, понижая голос так, чтобы нас не смогли слышать турки, которых Хава увела немного подальше, рассказывая что-то о цветочных клумбах.
– Не огорчайся так часто своей невежественностью и невыдержанностью, – продолжал сэр Уоми, усаживая меня на скамью между собой и Иллофиллионом. – Если ты хочешь спасти жизнь брата, – развивай героические чувства не только в одном каком-то деле. Но в каждом обычном дне живи так, как будто это твой последний день. Не оставляй запаса сил и знаний на завтра, а отдавай всю полноту мыслей и чувств сегодня, сейчас. Не старайся развить силу воли, а действуй так, чтобы быть просто добрым и чистым в каждую пробегающую минуту.
К нам подошли турки с Хавой, державшей в руках прекрасный портфель из зелёной кожи. Передавая его мне, она лукаво улыбнулась, спрашивая, не напоминает ли мне зелёный цвет чьих-либо глаз.
– А внутри, – прибавила она, – вы найдёте портрет сэра Уоми.
Я был тронут вниманием девушки и сказал ей, что, очевидно, всем вокруг неё тепло, что я всегда буду помнить её любезность и опечален тем, что я плохой кавалер и у меня нет ничего, что я мог бы оставить ей на память.
– Ну а если я найду что-нибудь, что принадлежит вам? Оставите ли мне свой автограф на память?
Я совершенно опешил. Моя вещь в этом доме? Я потёр лоб, проверяя, не заснул ли уж я мёртвым сном Флорентийца? Хава звонко рассмеялась и своим гортанным голосом сказала:
– Я жду ответа, кавалер Лёвушка.
Я окончательно смутился, и за меня ответил сэр Уоми:
– Неси своё сокровище, Хава, если оно у тебя есть. И не конфузь человека, который ещё и сам не знает, что подал миру прекрасную жемчужину и украсил многим жизнь.
Я перевёл глаза на сэра Уоми, думая увидеть на его лице уже знакомое мне юмористическое выражение. Но лицо его было серьёзно, и смотрел он ласково. Я почувствовал привычное мне раздражение от всех этих загадок и уже готов был раскричаться, как в дверях увидел Хаву с толстой книжкой в руках. Это был журнал «Новости литературы». Развернув книжку, она поднесла мне страницу с заголовком рассказа: «Первая утрата – и свет погас». Это был тот мой рассказ, что пленил аудиторию и какого-то литератора на студенческой вечеринке в Петербурге, а теперь был напечатан. Хава перелистала страницы и показала мне подпись: «Студент Т.».
– Ну, пиши автограф, – сказал Иллофиллион, – и надо собираться на пароход.
Я взял из рук Хавы карандаш, взглянул на неё, рассмеялся и написал:
«Новая встреча – и свет засиял».
Мой автограф вызвал не меньшее удивление всего общества, чем появление моего рассказа.
– Ты ещё и сам не осознаёшь, что смог выразить в своём рассказе и что значат слова твоего автографа, мой юный мудрец, – сказал, прощаясь, сэр Уоми. – Но в нашу следующую встречу ты уже будешь во всеоружии знания. Иди сейчас так, как тебя поведёт Иллофиллион, и дождись в его обществе возвращения Флорентийца.
Он обнял меня и ласково провёл рукой по моим волосам. Хава протянула мне обе руки. Я склонился и поцеловал одну за другою эти прекрасные чёрные руки, как бы прося прощения за испуг и отвращение, которые они мне внушили вначале.
Я почувствовал, что руки её задрожали, а когда поднял голову, увидел изменившееся выражение лица Хавы и услышал шёпот:
– Я всегда буду вам верной слугою, и свет мне будет сиять и от вас.
Нас разъединил Иллофиллион, подошедший проститься с Хавой.
Мы вышли все вместе из дома и расстались с турками, которые хотели навестить ещё своих родственников. Я удивился, как промелькнуло время. Казалось, мы пробыли у сэра Уоми только час, а на самом деле было уже около семи часов вечера.
Я был рад, что турки ушли; говорить мне совсем не хотелось. Иллофиллион взял меня под руку, мы свернули на какую-то улицу и зашли в книжный магазин. Иллофиллион спросил, нет ли последнего номера сборника «Новости литературы».
– Нет, – ответил приказчик. – На этот раз всё раскупили.
Тут кто-то из другого угла магазина сказал, что можно снять с витрины последний номер, если мы наверняка купим книгу. Иллофиллион уверил, что мы купим её непременно, приказчик снял её с витрины, мы расплатились, уложили книгу в мой портфель и вышли.
– Как не хочется идти на пароход, Лоллион, – сказал я. – Век жил бы тут, в саду сэра Уоми.
– Ну, вот и верь тебе! Ты хотел век жить возле Флорентийца, всю жизнь разделять его труды. А теперь хочешь жить в саду Уоми? – улыбнулся Иллофиллион.
– Да, – ответил я. – Слова мои могут показаться изменой Флорентийцу. И сам я даже не смог бы вам передать, что творится в моём сердце. Оно как будто ещё расширилось, там живёт уже не один мой брат и Флорентиец. Я ещё не могу понять, что общего я нашёл между всеми вашими друзьями: Али, Флорентийцем и сэром Уоми. Но какое-то высшее благородство, какая-то невиданная сила в них общие. Я даже думаю, что и вы, и Ананда имеете много общего с вашими друзьями. Я не могу ещё взять в толк, почему все вы ко мне так беспредельно милосердны и самоотверженны! Защищая брата, который, конечно, достоин всякой защиты и помощи, вы все делаете и для меня тоже столь многое, чего я вовсе не заслужил. И вы, лично вы, Лоллион, – чем смогу я когда-нибудь отплатить вам?
– Не наград или похвал должен ждать человек за своё поведение в жизни, Лёвушка, – ответил Иллофиллион. – Жизнь – это только ряд причин и следствий, и этому закону подчинена вся Вселенная, не только жизнь человеческая. Но мы с тобою будем иметь ещё много времени, чтобы говорить о делах на личные темы. Не хочешь ли сейчас соблюсти долг вежливости и купить цветов нашим дамам за то, что они так трудились и помогали нам одеть Жанну и детей?
– Нет, вознаграждать их – как вы только что сказали – за доброе дело мне как-то не хочется; а вежливость… возможно, я плохой кавалер. Но что мне хочется, всем сердцем хочется, так это принести роз Жанне, – это я бы сделал так радостно, что даже возвращение на пароход мне было бы менее тяжело.
– Прекрасно, вон там я вижу цветочный магазин. Я выполню долг вежливости по отношению к итальянкам, ты – подари цветы Жанне. Но будь осторожен, Лёвушка. Ни в одной из женщин, встречающихся нам на пути сейчас, ты не должен видеть женщину как предмет любви, а только тех друзей, которым мы с тобою должны помочь, если можем. Мы с тобой должны хранить сейчас в сердце и мыслях такую глубокую чистоту и целомудрие, как будто бы мы идём в священный поход. Все наши силы, духовные и физические, должны быть всецело устремлены только на то дело, которое нам дано Флорентийцем и Али. Мужайся и на меня не сердись. Бедное разбитое сердце Жанны готово привязаться всеми силами к тому, кто выкажет ей сострадание и внимание. Тебе же предстоит сейчас задача не утешения лишь одной женщины, а служение всею верностью задаче, взятой тобой на себя добровольно. Раздваиваться, желая и брата спасти, и женщину найти, тебе сейчас нельзя.
– Мне и в голову не приходило перейти границы самой простой дружбы в моём поведении с Жанной. Я очень сострадаю ей, готов всем сердцем ей во всём помочь, – ответил я. – Но верьте, Лоллион, ни она, ни Хава никогда не могли бы быть героинями моего романа… И если чем-нибудь я дал вам повод подумать иначе, я согласен отнести цветы синьорам Гальдони, а вы – за нас обоих – передайте мои Жанне.
Мы вошли в цветочный магазин, у окна которого стояли несколько минут, разговаривая.
Когда мы стали выбирать букеты дамам, я всё же сам выбрал белые и красные розы для Жанны. Я сложил свой букет на пальмовый лист, перевязал его белой и красной лентой, а Иллофиллион выбрал один букет из розовых, а другой – из жёлтых роз итальянкам.
На его вопрос, почему я выбрал эти цвета роз и лент, я ответил, что не знаю вообще значения цветов. Но Али прислал мне подарки белого цвета – цвета силы; и красного – цвета любви, когда я шёл к нему на пир.
– Теперь я, в свою очередь, хочу послать Жанне привет любви и силы и надеюсь, что она не увидит в этом чего-либо предосудительного.
Из цветочного магазина мы снова вышли на набережную. Внезапно раздался гудок с нашего парохода, и, хотя торопиться было ещё нечего, мы всё же отправились прямо на пароход.
Дойдя до отделения первого класса, мы расстались с Иллофиллионом; он прошёл к Жанне, а я направился в каюту итальянок и передал розовый букет дочери и жёлтый – матери. Девушка радостно приняла цветы, и нежный румянец разлился по её лицу.
Мать ласково улыбнулась и спросила, видел ли я мадам Жанну в новом наряде. Я ответил, что туда прошёл мой кузен, так как малютки нуждаются в его надзоре, а я повидаю их всех завтра и полюбуюсь сразу туалетами всех.
Я был полон неожиданными новыми впечатлениями, из-за портфеля с книгами меня тянуло скорее в каюту, чтобы хоть на портрет брата посмотреть наедине, – а тут приходилось стоять в толпе разряженных дам и мужчин, выслушивать их и отвечать на лёгкий салонный разговор. Я воспользовался первым попавшимся предлогом, быть может, показавшись не очень учтивым, и поднялся на свою палубу.
Я прошёл прямо к себе в каюту с намерением принять душ, а потом полежать и подумать. Но, очевидно, всем моим намерениям не суждено было сегодня сбываться.
Не успел я снять пиджак, как явился мой нянька – матрос-верзила – и подал мне небольшую посылочку и письмо в очень элегантном длинном конверте. Он очень интересовался нашим путешествием на берегу, жаловался, что его не пустили со мной в город, а он, наверное, был бы мне там нужен.
Как только я отделался от него, пришли турки. Я едва успел спрятать свою посылку и письмо. Турки рассказывали, что очень весело провели время у своих родственников в городе, от которых узнали о том, сколько бедствий принесла буря, из которой благополучно выбрался только один наш пароход. Вышедшие из Севастополя следом за нами два парохода, один – старый греческий и другой – французский, решившийся выйти из гавани при уже начинавшейся буре, – оба погибли. А в Севастополе буря всё ещё свирепствует и сейчас, хотя уже с меньшей силой.
Что же касается нашего судна, то они слышали от старшего механика, что в Константинополе ему придётся идти в большой ремонт и задержаться там надолго.
Всеми силами я старался быть вежливым и выдержанным, но внутри у меня клокотало раздражение от этой постоянной невозможности жить так, как хочется, а быть прикованным ко всем условностям светского приличия.
«Неужели, – думал я, – все поразившие меня новые люди огромной выдержки, которых я увидел за эти дни, и едущий со мной сейчас Иллофиллион приобрели своё хорошее воспитание и выдержку таким же трудным путём, как я?»
Я готов был дать понять туркам, чтобы они уходили поскорее и дали мне возможность побыть одному. Я еле удерживал себя в границах приличия, когда на трапе нашей палубы раздались голоса Иллофиллиона и капитана.
Меня поразило лицо Иллофиллиона. Я ещё ни разу не видел его таким сияющим. Точно внутри у него горел какой-то свет, так весь он казался насквозь светящимся радостью.
В моей голове снова промчался вихрь мыслей. Тут были и мысли низкие, недостойные; я подумал, что Иллофиллион был так долго у Жанны потому, что он её любит, и потому его лицо сейчас так сияет. А мне говорил о невозможности проявления сейчас личных чувств. Скользнули здесь и ревность, и грубая мысль о моей зависимости от почти незнакомого мне человека. В моей душе вновь поднялись чувство протеста и сильное раздражение.
Я почти не слышал, о чём говорили вокруг меня. Ещё раз я посмотрел на Иллофиллиона – и устыдился всех своих недоброжелательных чувств. Лицо его всё так же светилось внутренним светом, глаза сверкали, напоминая глаза-звёзды Ананды.
«Нет, – сказал я себе, – этот человек не может быть двуличным. Мысль такого светящегося лица должна гореть честью и любовью. Иначе откуда же взяться этому свету, который всех греет и рассеивает даже такой мираж, в каком я запутался сейчас».
Я унёсся воспоминанием обо всём том, что рассказал мне Иллофиллион о себе; о том, что я постиг и увидел за короткое время через него, и о том необычном человеке, которого он показал мне в Б.
Постепенно я забыл обо всём, превратился в «Лёвушку – лови ворон», перенёсся в сад сэра Уоми и так погрузился в мысли о нём, что точно услышал его голос: «Мужайся, пора детства прошла. Учись действовать не только для помощи брату, но вглядывайся во всех встречаемых. Если ты встретил человека и не сумел подать ему утешающего слова – ты потерял момент счастья в жизни. Не думай о себе, разговаривая с людьми, а думай о них. И ты не будешь ни уставать, ни раздражаться».
Я вздрогнул от страшного рёва, вскочил, оглушённый им, сконфузился от общего смеха и никак не мог сообразить, где я, – и наконец понял, что это ревёт пароходный гудок.
Иллофиллион ласково обнял меня за плечи, говоря, что нервы мои совсем истрепались за эти дни.
– Да, Лоллион, истрепались.
И я хотел рассказать ему ещё об одной своей слуховой галлюцинации, но он незаметно для других приложил палец к губам и шепнул: «После», чем немало удивил меня.
Между тем гудок умолк, и на пароходе закипела обычная перед отправлением суета. Мы медленно отходили от мола. Полоса воды между нами и Б. становилась всё шире; и наконец берег скрылся из глаз. Ещё одна страница моей жизни закрылась, ещё один светлый образ поселился в моём сердце прочно, и я даже не заметил, какое огромное место он там занял.
Глава 15. Мы плывём в Константинополь
Спустя некоторое время явился верзила со складным столом и скатертью, а за ним лакей с тарелками и прочими принадлежностями для обеда.
Турки вспомнили, что им надо переодеться к табльдоту, и поспешили вниз.
Мне стало легче с их уходом. Гармоничная атмосфера Иллофиллиона, точно горный зефир, охватила меня. И всё мелкое, раздражающее, ведущее мысли и чувства в тупик личных переживаний, отступило. Интерес к его внутренней жизни, желание понять причины его необыкновенного состояния вышли на первый план. Я невольно подпал под очарование его спокойствия и даже какой-то величавости его настроения. Мои мысли вернулись назад, к его детству, к его страданиям и к той силе, до которой он вырос теперь.
Я молча сидел подле него и впервые заметил, что вся внешняя суета не мешает мне, что я даже не замечаю людей, хоть и вижу их совершенно ясно. Я не превратился в «Лёвушку – лови ворон»; чётко осознавал, где я, и перекинулся несколькими словами с капитаном, но внутри меня всё будто звенело. Я был тих; никогда ещё я не испытывал такого спокойствия и сознания, что оно пришло от той внутренней гармонии, которую распространял всё продолжавший светиться Лоллион.
«Вот как может быть счастлив человек своим внутренним состоянием. Вот где сила помощи людям без слов, без проповедей, одним своим живым примером», – подумал я.
Даже моё нетерпение узнать, от кого мне передали посылку и письмо, отступило куда-то; я стал думать о пиcьме Флорентийца ко мне. Только сейчас дошли до моего сознания его слова о том, что я должен поехать в Индию. Эта страна всегда вызывала у меня большой интерес (быть может, потому, что у брата я прочитал много книг о ней с красочными иллюстрациями). А теперь, когда я увидел такого человека, как Али, и узнал от Иллофиллиона, что все они – и сэр Уоми тоже – были в Индии и жили там, мой интерес к ней возрос многократно. Мне захотелось самому увидеть эту страну. Моё недавнее неприятие Востока и страх перед ним улеглись. Я по-новому стал воспринимать разлуку с братом, видя в ней уже не трагедию, а начало нового этапа своей жизни.
Когда мы закончили обедать, мне пришлось прибегнуть к каплям Иллофиллиона, так как в открытом море всё же качало, и я чувствовал себя неустойчиво. Отголоски бури, как предсказывал капитан, продолжались, и сейчас это почему-то очень остро подействовало на меня.
– Я давно уже вижу, дружок, что тебе хочется рассказать мне о своих впечатлениях. Мне тоже есть что рассказать тебе, – сказал Иллофиллион.
– Прежде всего, мне хотелось бы узнать, от кого я получил посылку и письмо из Б., и поделиться их содержанием с вами, – ответил я.
По лицу Иллофиллиона скользнула улыбка; он встал и предложил мне перейти в каюту. Я достал из-под подушки своего дивана письмо и посылочку. Разорвав конверт, я был удивлён свыше всякой меры подписью: «Хава», которую я в своём нетерпении прочёл первой.
Я так изумился, что вместо того, чтобы читать письмо самому, протянул его Иллофиллиону. Представление о чёрной статуе в белом платье, которую я счёл мелькнувшей и навек исчезнувшей для меня бабочкой, ожило и довольно неприятно поразило меня.
Иллофиллион взял письмо, посмотрел на меня своими светящимися глазами и стал читать вслух:
«Я не знаю, какими словами мне начать моё обращение к Вам. Если бы я была белой женщиной, я смогла бы обойти установленные вековыми предрассудками условные правила светских приличий. Но моя чёрная кожа ставит меня вне законов вежливости и приличий, которые белые люди считают иногда обязательными только для белых. Я могу обращаться к Вам не иначе как к частице света и духа, живущих в каждом человеке, независимо от времени и места, нации и религии. Знание рассеивает все предрассудки и суеверия; и я, обращаясь к Вашей способности любить, позволю себе сказать Вам: «Друг». Итак, Друг, – впервые в жизни белый человек выразил мне свою вежливость и сострадание, прижав к своим губам мои чёрные руки. Если бы даже я жила ещё тысячу лет – то и тогда не забыла бы этих поцелуев, потому что на них ответил Вам поцелуй моего сердца. Быть может, есть много форм любви, о которой говорят и которую выражают действиями женщины. Мне же доступна одна форма: беззаветной преданности, не требующей ничего личного взамен. Я отдаю Вам всё своё сердце, не умеющее двоиться; и верность моя пойдёт за Вами всюду, будет ли это рай или ад, костёр или море, удача или поражение. И почему именно так пойдёт моя жизнь, какие вековые законы жизни связывают нас – мне ясно. Когда-либо станет ясно и Вам, но сейчас я о них молчу. Я знаю всё, что Вы можете подумать о моей привязанности, такой Вам сейчас ненужной и стеснительной. Но будет время, Вы выберете себе подругу жизни, – и чёрная няня может пригодиться белым детям. Моя преданность, так навязчиво предлагаемая сейчас, если рассматривать её с точки зрения условностей, на самом деле проста, легка, радостна. Если подняться мыслью в океан движения всей Вселенной и там уловить свободную ноту любви, не подавляемой иллюзорным пониманием дня как тяжёлого испытания, долга и жажды набрать себе лично побольше благ и богатства, – там можно увидеть не этот серый день, сдавленный печалью и скорбью, но день счастливой возможности излить из своего сердца любовь свободную, чистую, бескорыстную, – и в этом истинное счастье человека. И да простит мне жизнь мою уверенность, но я знаю, что в Вашем доме я найду свою долю мира и помощи Вашим детям. Я знаю, как испугала Вас моя чёрная кожа, и тем глубже ценю благородство сердца, отдавшего поцелуй моим чёрным рукам. Чтобы не напоминать Вам о своей черноте и вместе с тем послать Вам память о нашей встрече, я посылаю Вам небольшую шкатулку, которая Вам, наверное, понравится. Примите её как самый ценный дар моей преданности. Мне дал её сэр Уоми в день моего совершеннолетия, сказав передать её тому, за кого я буду готова умереть.
Я уже сказала: путь мой за Вами. Чтобы не показаться сентиментальной, я кончаю своё письмо глубоким поклоном Вашему другу Иллофиллиону, Вашему брату и Вашему великому другу Флорентийцу.
Ваша слуга Хава».Иллофиллион закончил читать. Я сидел, опустив голову на руки и не зная, что думать ещё и об этом случайном знакомстве.
– Нет случайностей, – услышал я голос моего друга. – Всё, с чем мы сталкиваемся, подчинено закону причинности, и нет в жизни следствий без причины. Чем больше человек освобождается от предрассудков, тем больше он может познать. И Хава права, когда пишет тебе, что знание рассеивает все предрассудки и суеверия. Но у нас ещё будет немало времени, чтобы поговорить обо всём этом. Сейчас я хочу тебе сказать, что преследовавшие нас сарты погибли на старом греческом судне, на которое их привела ненависть, хотя они знали о предстоящей буре. Теперь до Константинополя мы свободны от преследователей. А там узнаем, как быть дальше.
Не хочешь ли взглянуть на заветный подарок Хавы? Качка усиливается, нам надо будет снова обойти весь пароход. После перенесённой бури люди гораздо чувствительнее к качке. Жанну надо навестить первой, потом итальянок и остальных.
Я развернул небольшой пакет Хавы и достал из кожаного футляра квадратную шкатулку тёмно-синей эмали, на крышке которой был изображён овальный эмалевый портрет сэра Уоми. Портрет был окружён рядом некрупных, но чудесно сверкавших бриллиантов, а в качестве замка был вделан крупный выпуклый тёмный сапфир.
– За всю жизнь я даже не видел столько драгоценных вещей, сколько мне пришлось держать в руках за эти недели, – сказал я.
– Да, – ответил Иллофиллион. – Много людей хотело бы хоть в руках подержать портрет сэра Уоми, не только что получить его в подарок. Но спрячь всё в саквояж, нам время обойти пароход.
Я убрал все свои вещи и книги в саквояж. Иллофиллион достал наши аптечки, и не успели мы их надеть, как в дверях появился посланный капитаном матрос-верзила с просьбой поспешить в лазаретную каюту № 1А, где опять стало плохо и матери, и детям.
Мы помчались ближайшими переходами к Жанне, причём мой нянька-верзила снова спас мой нос и рёбра, так как я не мог удерживать равновесия. На мой вопрос, уж не начинается ли снова буря, Иллофиллион ответил, что природа не в состоянии разъяриться так два раза подряд. А верзила, смеясь, уверял, что это всего только зыбь. Быть может, это и была зыбь, но – надо отдать ей справедливость – зыбь препротивная.
Мы вошли к Жанне и снова застали картину почти такого же отчаяния, которое увидели в первый раз. Она сидела с обоими детьми на коленях, забившись в угол дивана. Лицо её выражало полную растерянность, и когда Иллофиллион наклонился к девочке, чтобы взять её и положить на детскую койку, она схватила его за руку, крича, что девочка умирает, и она не хочет, чтобы дочь умирала на холодной койке, пусть лучше у сердца матери. От резкого движения и малыш скатился бы на пол, если бы я не подхватил его.
Взяв ребёнка на руки, я готов был разразиться упрёками, но… образ сэра Уоми, прочно поселившийся в моём сердце, помог мне сдержаться. Я мягко сказал ей:
– Так-то вы держите обещание ухаживать за детьми? Разве им не будет удобнее в своих постельках, чем у вас на руках?
Жанна плакала, говоря, что, не видев меня так долго, не сумела сохранить самообладание; болезнь детей просто разрывает ей сердце, а я, по её словам, совсем забыл о ней. Я возразил, что Иллофиллион и итальянки её навещали, а моё присутствие или отсутствие не может повлиять на здоровье детей.
– Я сам ещё так молод и невежествен, что всецело нуждаюсь в наставнике, – продолжал я. – Если бы не мой брат Иллофиллион, я бы десять раз погиб. Перестаньте думать, что вы одиноки и несчастны, лучше помогите доктору дать детям лекарство.
Сам не знаю, что ещё я наговорил бедной женщине, но нежный тон моего голоса, должно быть, передал моё сострадание. Мигом она вытерла слёзы, – и лучшей сестры милосердия было не найти.