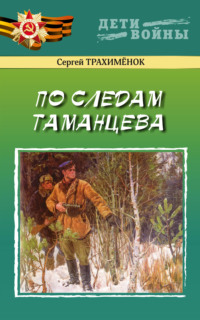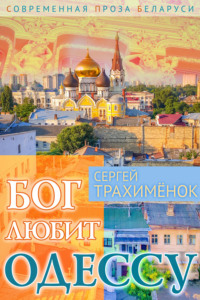Полная версия
Груз небесный
– А тебя и не пугают, – строжится старшина, – разъясняют, чтобы потом слез не было… со мной не работали, не разъясняли, что молодежь обижать нельзя…
– Да нужны они мне… пусть живут, – тянет Володин, делая скучное лицо, показывая, что мы ему смертельно надоели…
Препирания в том же духе продолжаются, и ему понятно, что воспитательной беседы у нас не получилось.
– Идите на производство, Володин, – говорю я к неудовольствию Силина, который все еще не теряет надежды «поставить Володина на место», – и имейте в виду: этот разговор последний. – Хотя прекрасно знаю, что никакой он не последний и сколько еще будет таких разговоров.
Володин идет к дверям, а Силин, сердито посмотрев на меня, бросается вслед за ним. Я знаю, что в коридоре он прижмет Володина к стенке, поднесет к носу свой тяжелый кулак и скажет: «Я т-т-тебе не замполит, п-п-понял?»
– П-п-понял, – ответит Володин.
Future[4]Веригин стоял у окна и ждал, когда из-за угла главного корпуса появится первый караул.
– Тух, тух, – глухо ухала колотушка большого барабана в оркестре, игравшем «Прощание славянки».
– Хрясь, хрясь, – раздавался одновременно с ней удар о мокрый асфальт плаца нескольких сотен сапог.
Развод караулов проходил вне видимости Веригина, но он ясно представлял себе идущих мимо дежурного по караулам сослуживцев, их четкие повороты головами после команды «равнение направо», их прижатые к бокам руки и знакомое всем, кто ходил в строю, ощущение такой же прижатой к бедру руки своего товарища.
Судя по времени, первый караул уже миновал дежурного и перешел на «вольно», вот он, а вслед за ним и другие караулы сворачивают с плаца, чтобы идти к спортивным площадкам, рядом с которыми их ждут крытые брезентом ЗИЛы. Вот оркестр прервал игру, это значит, что последний караул прошел мимо дежурного, а сам дежурный двинулся вслед за колонной, чтобы чуть позже дать команду «По машинам». Команда эта прозвучит минут через десять, и тогда вновь грянет «славянка», откроются зеленые ворота части и первым на улицу выедет уазик с синей мигалкой и сиреной, похожими на милицейские, за ним потянется вся колонна грузовиков с уезжающими на выполнение боевой задачи однополчанами Веригина. А сейчас из-за угла здания покажется первый караул…
– Рядового Веригина к командиру роты, – истошно кричит из глубины расположения дневальный свободной смены.
Веригин по-прежнему смотрит в окно, но первый караул почему-то задерживается.
– Оглох, что ли? – спрашивает его дневальный, стоящий у тумбочки, – к ротному тебя…
Веригин бросает последний взгляд на улицу, поворачивается и идет в канцелярию роты. Постояв какое-то время перед дверью, он открывает ее, делает шаг вперед и оказывается в крошечной комнате, где с трудом помещались стол, шкаф для одежды и несколько стульев.
В канцелярии находилось три человека, впрочем, если верить ротным острякам, не три, а два человека и один писарь. Писарь сидел за столом и с преувеличенным вниманием читал какую-то бумагу, делая вид, что визит Веригина его совершенно не волнует. Люди же, а ими были капитан и старший лейтенант, не сидели, а стояли. Старший лейтенант смотрел в окно, а капитан рассматривал вошедшего так, будто видел его впервые либо увидел в нем что-то новое. Капитана Веригин знал хорошо – это был его командир роты, неплохой в общем мужик, если, конечно, его не доводить до белого каления. Старлей был ему не знаком, но так и должно быть, поскольку тот не служил в полку, а был офицером другой части. Старлей продолжал смотреть с высоты третьего этажа на сквер, в котором молодые мамаши катали детские коляски, и появление Веригина, казалось, его не интересовало.
«Из дальнего гарнизона, – мелькнула в голове у Веригина мысль, как-то объясняющая поведение старшего лейтенанта, – изголодался по цивилизации…»
Веригин делает еще один шаг вперед, насколько ему позволяет пространство канцелярии, щелкает каблуками так, как это могут делать строевики, докладывает о прибытии.
Ротный не останавливает его, как обычно, выслушивает рапорт до конца. Веригин понимает, капитан дает ему возможность показать себя и произвести таким образом благоприятное впечатление на старшего лейтенанта. Но старшему лейтенанту не до строевой выучки Веригина: он весь там, за окном. Так, наверное, глядят на свободу люди, вырвавшиеся из тюрьмы на несколько часов.
– Вот, Дима, – между тем произносит ротный, дружеским тоном, не принятым в обычном обращении офицеров части с подчиненными, – поедешь со старшим лейтенантом… Ты не переживай особенно. Ну не получилась у тебя служба здесь, надо сделать так, чтобы она получилась в другом месте… Иногда полезно немного обжечься… Сам знаешь. Суворов говорил, что за одного битого двух небитых дают… Документы твои у сопровождающего, поедешь с ним, понятно?
– Так точно, – почти кричит Веригин и достигает цели. Старший лейтенант отрывается от окна и смотрит на него, правда без особого интереса.
Веригин же в свою очередь смотрит на старлея, и тот ему не нравится. Однако Дима не может понять почему, то ли из-за брезгливого высокомерия на лице, то ли от непривычных эмблем и черных петлиц на шинели.
«Соляра[5], – думает о старлее Веригин, – что такие понимают в службе и людях…»
– Вопросы к рядовому Веригину, – обращается к старлею командир роты, и даже писарь отрывает глаза от бумаги и с любопытством смотрит на старшего лейтенанта, надеясь узнать его реакцию. Но тот не опускается до вопросов к рядовому Веригину.
– Пять минут на сборы, – говорит он и снова поворачивается к окну.
Через четверть часа Веригин в сопровождении старшего лейтенанта вышел из расположения батальона. Возле спортплощадок уже никого не было: машины уехали, и даже оркестр успел уйти в свое расположение.
«Не проводил ребят в караул», – пожалел Веригин, и сердце его сжалось.
Когда они миновали КПП и вышли на улицу, старлей оглядел Веригина с ног до головы, словно оценивая, и, оценив, заявил:
– Пойдете впереди меня, и чтоб без шуток, шагом марш…
«Пижон», – мысленно обругал сопровождающего Веригин.
Сам он почти год служил в армии и прекрасно знал такую породу офицеров, чаще всего нестроевиков. Впрочем, кого еще могут послать за одним бойцом, как не офицера, не загруженного службой, то есть не имеющего в своем подчинении «любимого личного состава».
Под «конвоем» сопровождающего Веригин добрался до Ярославского вокзала. Здесь старший лейтенант долго смотрел расписание электричек, шевелил губами, записывал что-то в записную книжку, а потом приказал Веригину следовать в зал ожидания. Там они уселись на желтые пластмассовые кресла и Дима заметил, что взгляд сопровождающего и все его поведение стало не таким строгим и официальным, как раньше. Старлей даже предложил ему закурить. Но Веригин отказался, и не потому, что не курил, – баловался в последнее время и даже носил при себе пачку сигарет, для возможного установления контакта с себе подобными, а потому, что не было искренности в предложении сопровождающего, значит, это была подачка, а на подачки, уважающие себя военнослужащие бросаться не должны.
Видя, что Веригин не клюнул на предложение, старлей тоже не стал курить и попытался найти подход к нему по-другому.
– Слушай, – сказал он, – как тебя зовут?
– Никодим, – ответил Веригин, а про себя обозвал старлея идиотом, ведь контакт можно было установить еще в канцелярии или, на худой конец, по дороге на вокзал, а не тогда, когда офицеру что-то от него понадобилось…
– Никодим, – повторил вслух сопровождающий, – а ты не врешь?
– Я никогда не вру, – заметил Веригин.
– А почему тебя командир роты назвал Димой?
– Козе понятно, – ответил Веригин, – сокращенный вариант имени… Дима – значит Никодим, как Мила, к примеру, – Людмила, а Лина – Ангелина…
– Вот как, – удивился старлей, и сделал это настолько неискренне и неестественно, что Веригин еще раз убедился: вся внимательность сопровождающего имела под собой некий скрытый смысл, который вот-вот должен был проявиться. Так оно и вышло.
– Послушай, Дима, – начал старлей, – мне тут в одно место забежать надо…
– Святое дело, – ответил Веригин, не дав сопровождающему договорить, и неожиданно для себя понимающе ухмыльнулся.
Ухмылка испортила дело. Выражение лица старлея мгновенно изменилось, в глазах его мелькнул праведный командирский гнев, и он произнес сквозь зубы:
– Ладно… Переходим в зал для военнослужащих…
Пока шли к залу военнослужащих, Веригин несколько раз пожалел, что поступил столь бестактно. Но сделанного не воротишь, да и не извиняться же за какую-то ухмылку. Однако он все же попытался установить со старлеем если уж не добрые, то вполне нормальные, по армейским меркам, отношения.
– Поезд у нас когда? – спросил он дружелюбно, объединяя словом «нас» себя и сопровождающего.
– Разговорчики! – ответил старлей. Из чего Веригин понял, что контакта с сопровождающим у него не получится.
В зале для военнослужащих людей было немного: в углу сразу на десятке кресел расположился капитан-летчик с вещами, женой-блондинкой и дочкой, девчонкой лет трех-четырех; поодаль от них группировались несколько срочников, видимо отпускников, да два лейтенанта стояли у окошечка с надписью «дежурный помощник коменданта вокзала».
Сопровождающий плюхнулся в одно из кресел, то же самое проделал и Веригин. Помолчали, однако Дима чувствовал, что старлею не сидится, ему мешает внутренняя напряженность, какая бывает у человека усиленно ищущего выход из трудной ситуации. Здесь не нужно быть ясновидцем, чтобы понять – старлей хочет провести время в Москве с пользой для себя, но боится оставить его одного: сбежит, не отмоешься. Конечно, Веригин может сбежать и просто так, но в этом случае старлей, что называется, не при чем, мало ли что может случиться в армии – солдата на цепь не посадишь, тогда, как в первом случае вся вина ляжет на старлея: начальники любят выявлять «причины и условия, способствующие совершению дисциплинарных проступков». Старлей это хорошо знает.
Так они просидели около пяти минут, пока сопровождающий не сказал Веригину:
– Будь здесь, – и направился в сторону кабинета дежпома коменданта вокзала.
Веригин видел, как старлей подошел к окошку, о чем-то поговорил с дежпомом и куда-то направился, воровато оглянувшись.
Это оглядывание не понравилось Веригину. Так в детстве на улице смотрели по сторонам старшие мальчишки, прежде чем дать затрещину младшим.
Спустя минуту оттуда, куда скрылся старший, появился рядовой с воздушно-десантными эмблемами и бляхой патруля на кителе.
– Идем, – сказал десантник Веригину, – тебя командир зовет.
Веригин поднялся с сиденья, взял вещмешок и двинулся вслед за патрульным. Они прошли мимо окошка дежпома, завернули за угол и оказались в полутемном коридоре возле обшарпаной двери. Десантник повернулся к Веригину и вдруг резко ткнул его кулаком снизу в печень.
Острая боль согнула Веригина пополам.
– Это воспитательная работа, – беззлобно сказал десантник, – в армии служат, а не бегают от службы и старших по званию, усвоил?
Затем десантник открыл дверь и втолкнул Веригина в комнату без окон. Дверь закрылась, в скважине повернулся ключ, а затем зажегся свет.
Веригин слышал, что на вокзалах при комендатурах есть помещения, в которых можно на час-другой закрыть до приезда машины из городской комендатуры военных, задержанных за нарушение порядка или формы одежды. Видимо, он оказался именно в такой комнате, «задержке» как ее называли срочники.
Когда боль ослабла, он разогнулся и сел на лавку, прибитую к стене, сделал несколько глубоких выдохов и стал ждать, когда боль окончательно отпустит его.
Минут через пять-семь боль действительно утихла, но легче ему не стало: место боли физической заняла боль душевная, вызванная обидой на старлея, который все это организовал, и десантника, который, как машина, включенная бездушным человеком, сработал так же равнодушно и безотказно.
Воображение тут же подсказало Веригину доводы, которые выложил сопровождающий перед дежпомом и начальником патруля, чтобы убедить их «закрыть его в задержке». Разумеется, старлей назвал его либо дезертиром, либо самовольщиком, а самому ему необходимо было «съездить в штаб за документами».
Чтобы не расплакаться от обиды и бессилия, он попытался представить себя разведчиком, заброшенным во вражеский тыл. Однако роль эта была ему не совсем понятна, и тогда он вдруг произнес на низких тонах:
– К торжественному маршу… побатальонно… на одного линейного дистанции…
Как ни странно – это помогло, через какое-то время он успокоился, поднялся с лавки и, подражая десантнику, сделал несколько крюков снизу по воображаемой печени сопровождающего. После чего он вновь уселся на лавку, поставил локти на колени, а подбородок опустил на сомкнутые ладони.
Как-то само собой у него закрылись глаза, и он перенесся из «задержки» в другую комнату.
* * *Восемьдесят человек, что прибыли с нами из части на отделку ДОСа, составляли половину роты. Вторая половина работала по основному месту дислокации в пятнадцати километрах от Н-ска. Но чистых отделочников там было немного – одна бригада. Остальные шестьдесят человек состояли на штатных унээровских должностях сварщиков, электриков, слесарей, столяров, кладовщиков, водителей, нормировщиков и являли собой отрядную интеллигенцию – «белую кость стройбата». Таким образом, с нами под Моховым была активная, рабочая часть подразделения.
– Восемьдесят активных штыков, – говорил Шнурков.
«Штыки» делились на пять отделений-бригад: одна плотников и четыре отделочников.
По национальностям: сорок два азербайджанца, девятнадцать русских, двенадцать грузин и семь человек других национальностей.
По образованию: десять классов – двенадцать человек, девять – двадцать один, восемь – тридцать четыре. Остальные не закончили и восьмилетки, так значилось в списке, который оставил мне ротный, однако ручаться за достоверность этих сведений было нельзя: против фамилии Гуссейнова-второго запись – шесть классов, а он вообще в школе не учился, по-русски не говорит, а писать не умеет даже по-азербайджански.
«Армия – школа интернационального воспитания». Такой плакат был перед входом в штаб отряда, и Шабанов всегда тыкал в него пальцем, требуя формировать подразделения из военных строителей разных национальностей.
Шнурков, больше болевший за план, чем за воспитание, имел в этом деле свой подход и создавал бригады по специальностям. И так получалось, что бригады плотников, составленные из призывников, умеющих держать топор, были русскими, а в отделочники попадали кавказцы.
Бригадир у Шнуркова был той же национальности, что и костяк бригады, и это было правильно, иначе «бугор» просто не смог бы объясняться с подчиненными.
Взвалив на себя обязанности ротного, я вдруг увидел, что совершенно не знаю людей. Впрочем, иначе не могло быть: кого узнают командиры прежде всего? Бригадиров, актив (если таковой есть) и, конечно, нарушителей дисциплины – «борзоту». И тех, и других, и третьих набиралось десятка два. Все остальные были для меня на одно лицо и звались личным составом.
Я понимал, человек запоминается поступками, и со временем все должно было стать на свои места. Но у меня не было времени ждать, пока все утрясется само, и я заучивал списки бригад, лично проводил вечерние поверки. Однако здесь была своя сложность: в роте служило девять Мамедовых, шесть Алиевых, пять Гуссейновых, три Ганиевых. Запомнить четыре десятка бойцов по одинаковым фамилиям, а иногда и именам за столь короткий срок было невозможно, и я пошел на хитрость: проставил в списке личного состава номера против каждой повторяющейся фамилии. Так, Мамедов-первый был у меня бригадиром второй бригады, Мамедов-второй – третьей, и так далее. Я знал, что бригадир-пять Гуссейнов-первый конфликтует с Ганиевым-вторым, неформальным лидером азербайджанского землячества. Мамедов-четвертый – страшный сачок и неумеха. Алиев-пятый – вопреки заповедям Магомета – неравнодушен к спиртному, за что его не любят земляки, а Ганиев-третий украдкой набивает папиросы желтоватым порошком, и служба после этого кажется ему лишенной тягот и неудобств.
По работе лучше всех дела обстояли у Тумашевского: бригада укладывалась в график плотницких работ и не сдерживала отделочников. Хуже было с бригадами обоих Мамедовых и Юсупова. Работали они через пень-колоду, план, разумеется, не выполняли, но при появлении начальства любого ранга развивали бурную деятельность: мчались бегом по лестницам, кричали друг на друга, яростно шкурили «деревяшку», переставляли из угла в угол козлы и другой инвентарь. Называлось это «умением вовремя прогнуться» и делалось вовсе не из уважения к начальству, а из боязни перевода на работы вне дома: в доме, даже если он не отапливается, все же теплее, чем на улице.
И уж совсем плохо шли дела у пятой бригады. Она рыла траншеи под фундаменты будущего объекта. Бригаду на всех планерках крыли мастера, но выработка от этого не росла. Впрочем, особо это никого не волновало: фундаменты были сдаточными в будущем году.
Когда я впервые в качестве и.о. комроты появился на фундаментах, то увидел, что в траншее работает один человек – бригадир Гуссейнов-первый. Он был одного призыва со своими подчиненными, но Шнурков рискнул назначить его «бугром». Гуссейнов-первый в прошлом году поступал в Бакинский политехнический, но, с его же слов, не прошел по конкурсу кошельков. Он хорошо говорил по-русски, и, по мнению комроты, лучше него никто не смог бы выполнить роль проводника шнурковской политики среди земляков.
Одного взгляда было достаточно, чтобы понять – в бригаде буза, а всякая буза имеет своего лидера, и я знал, что таким является Ганиев-второй, полная противоположность Гуссейнову.
При моем появлении двое из числа «слабонервных» прыгнули в траншею и стали помогать бригадиру, бестолково тыча лопатами в желтую глину… Остальные так и остались у костра, в котором (без всякого сомнения) догорал один из многочисленных заборов Объекта. Они только более энергично стали прыгать вокруг огня, яростнее тереть уши и носы.
Ганиев-второй в этом спектакле не участвовал. Он стоял в стороне и насмешливо поглядывал на меня. Взгляд этот говорил, что хозяин тут он, а не бригадир и даже не я.
Внешне Ганиев-второй больше походил на горца: орлиный нос, жесткий взгляд. Горским был у него и характер. По-русски он говорил плохо, со страшным акцентом. В общении с бойцами других национальностей использовал десяток общеизвестных слов и ругательств. Однако, несмотря на чудовищную бедность его лексикона, по несогласованным оборотам русской речи, произносимым с гортанной интонацией, по свирепому выражению лица и непременному мату можно было совершенно точно понять, о чем говорит и чего хочет Ганиев-второй.
– Как дела? – спросил я у греющихся, поймав себя на мысли, что делаю это с той же ласковой интонацией, что и Силин, когда спрашивал у Володина: «Где был Козлов?» Но, видимо, до старшины мне еще далеко, и в голос просочились нотки сдерживаемой ярости, потому что стоящие у костра, посматривая на Ганиева-второго, начали наперебой объяснять:
– Наш штукатур… маляр… бумага есть, а работай траншея… так нэ нада…
– Понял, – сказал им я, – будем решать с прорабом, а пока нужно работать там, где вас поставили. Ясно?
– Ясна, – ответил нестройный хор голосов, и в их глазах загорелся огонек надежды, но браться за кирки и лопаты они не спешили. Я еще поговорил о необходимости работать там, где тебя поставили, а не там, где ты хотел бы, и закончил:
– Я тоже предпочел бы служить на Кавказе, в Баку, например, но мне сказали: «Сибирь» – и я здесь.
Последняя фраза вызвала смех и ухмылки, наверное, они не могли представить меня в Баку.
Когда я уходил, кто-то из греющихся подлез близко к огню и обжегся. Этот кто-то стал длинно ругаться на родном языке, проклиная, как я догадался, мороз, Сибирь и меня…
* * *На третий день после отъезда Шнуркова «субчики» дали тепло, и мы на радостях чуть было не выбросили «козла», но внутренний голос остановил нас, и хвала ему: через день тепло отключили в связи с авариями на теплотрассе.
Этого дня мне хватило, чтобы разнежиться и после отключения тепла заболеть. Знакомое саднение в глотке послужило сигналом, и я пошел в санчасть.
Усатый капитан с кобрами на петлицах заглянул мне в рот, как сорока в кость, тыльной стороной ладони коснулся лба – измерив столь древним способом температуру, выписал амидопирин, нафтизин и порекомендовал отлежаться.
– Ну что? – спросил меня Силин, когда я вернулся от доктора. Он боялся, что меня направят в госпиталь.
– ОРЗ, – ответил я.
– ОРЗ, – обрадовался прапорщик, – ОРЗ – это не страшно… хотя ОРЗ сейчас самая распространенная болезнь, болезнь века, можно сказать, – «очень резко завязал» расшифровывается…
Радость Силина мне не понравилась, и я решил его подразнить.
– У меня освобождение (это соответствовало действительности), еду сейчас в Моховое: там живут друзья моих родителей… отваляюсь у них денька три, молока горячего попью…
– Т-товарищ лейтенант, – начинает заикаться Силин, – а к-как же р-р-рота?
– Поработаешь с ротой один. Суворовское правило помнишь: сам погибай…
Силин меняется в лице, но, взглянув на меня внимательней, успокаивается: догадывается о розыгрыше. И все остается по-прежнему. В четные дни мой рабочий день с развода до ужина. В нечетные того больше – с подъема до вечерней поверки. Но я, как говорит большая половина нашей роты, «балной» и позволяю себе посибаритствовать часик в общежитии утром, после развода, и в обед, когда Силин кормит роту.
Чувствую я себя скверно: температура, больная глотка и заложенный нос раздражают. Нервы мои похожи на балалаечные струны, и легкого щипка достаточно, чтобы они взыграли. Я постоянно нахожусь на грани срыва, но еще ни разу не сорвался, видимо, организм подключил то, что называется скрытыми резервами.
С каждым днем я все больше влезаю в производственные дела и все больше превращаюсь в хозяйственника.
Бегут бригадиры: «нэт раствор», «нэт краска», «нэт ынструмэнт», «торка давай»… Первое время это «давай» шокировало меня, как и «ты», и я старался тут же поправить подчиненного, а потом свыкся с этим, убедив себя в том, что «ты» – это не от желания уесть или оскорбить, а от незнания других форм обращения.
Итак – «нэт краска». Найдем. Используя служебное положение, проникаю на склад – но там «краска» тоже «нэт». Однако позволить бригаде сидеть без дела я не могу. «Все наши беды, – говорил Шнурков, – от незагруженности личного состава». И я «загружаю» личный состав, вспоминая его методы: проверяю готовность поверхностей к покраске и, конечно, нахожу, что они подготовлены недостаточно. После этого я требую прошпатлевать их еще раз, просушить и ошкурить. Бригадиры не соглашаются со мной, но, после недолгих препирательств, вновь берутся готовить поверхность к покраске, и, таким образом, проблема решается. Так или почти так решаются другие «нэт». «Нэт» терок и полутерок? Сделай сам: в роте целая бригада плотников. «Нэт» раствора – поднови старый. Где взять цемент? Ну ты даешь… Какой год служишь? Земляк – кладовщик, полведра отсыплет…
За неделю без ротного я освоил множество строительных премудростей: стал отличать цоколь от откоса, шпатель от терки; понял, чем отличается масляная шпатлевка от клеевой; мог по прогибам пола угадать, как проставлены лаги; узнал, как готовится клейстер для наклейки обоев и какая температура должна быть у стен, чтобы обои после наклеивания не отставали и не пузырились. Я был способным учеником: все, что мне удавалось «выведать» в одной бригаде, я, изменив слегка, выдавал в качестве рекомендаций в другой, убеждаясь, что в таком виде они там не были известны. Мало-помалу я приобретал славу компетентного в строительных делах человека. В роте даже прошел слух, что я до института «работал отделочником». Все это отчасти радовало меня, но я-то понимал, что сижу не в своих санях и этому вот-вот должен прийти конец.
День ото дня становилось все напряженнее: прибыла бригада вольнонаемных отделочников. Лучше стало с материалами, и, само собой, напрашивалась замена меня человеком, который знает свое дело по-настоящему, а не ловко имитирует такое знание. И таким человеком будет, конечно, Шнурков: его помаринуют в части и пришлют сюда, кому же еще командовать ротой во время сдачи ДОСа. А мне нужно: продержаться до его приезда; лучше узнать людей; сколотить актив и, главное, не допустить «чрезвычайных происшествий», и особенно в праздники, потому что они расценивались командованием как большой прокол в работе, а я не мог позволить себе иметь проколы.
О ЧП – по-стройбатовски «ЧеПухах» (ударение на втором слоге) я был наслышан, да что там наслышан, уже на первом месяце службы я сам попал в переплет, который ротный назвал боевым крещением. Было это в части. Шнурков уже убыл под Моховое, а я остался со штатниками и бригадой отделочников. Бригада состояла из азербайджанцев весеннего призыва, «оборзеть» не успела, и хлопот с ней было не много.