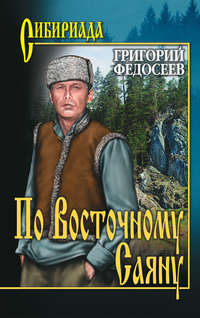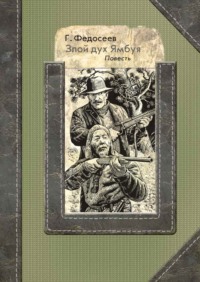Полная версия
Смерть меня подождет
…Шли дни, месяцы. Мы продолжали работать в Дашкесане и все больше привязывались к Трофиму. Он платил нам искренней дружбой, но открывался скупо, неохотно. Как-то нам нужно было получить в Ганджинском банке по чеку десять тысяч рублей. Все были заняты, и я послал Трофима. Помню, как сейчас, он уезжал верхом на серой, невзрачной лошаденке, и, когда скрылся из виду, меня вдруг обуяла тревога. А что, если он не вернется? И действительно, в назначенный день Трофим не приехал. Через день в лагерь прибежала его лошадь без седла и узды. Все так и решили: парень сбежал. В ночь я велел Беюкши запрягать лошадь. Не помню, как мы проехали в темноте по очень крутой и извилистой горной дороге, идущей от поселка Дашкесан.
Рассвет застал нас на равнине. На полях уже были сжаты хлеба, Беюкши поторапливал лошадей. Как только прояснело, впереди показался человек с узелком в руках… Это был Трофим.
Стало стыдно перед ним. Мы остановились.
– Вы куда едете? – удивился он.
– В Ганджу. Меня вызывают к прямому проводу, – ответил я, пытаясь скрыть истинную причину.
Он отрицательно покачал головой и улыбнулся:
– Нет, вы думали, что я сбежал… Напрасно беспокоитесь. Мне ведь некуда уходить, а деньги ваши я не возьму… Мне непривычно на лошади, я отпустил ее, а сам иду пешком. Так безопаснее.
Мы все же поехали в Ганджу. Всю дорогу меня не покидало чувство неловкости.
Спустя месяц, осенью, мы провожали на действительную службу Пугачева. Все, кроме Трофима, подарили на память Пугачеву какую-нибудь безделушку. В хозяйстве у Трофима еще ничего не было. Он увязался со мной на станцию Ганджа, куда я отправился провожать призывника. Мы не поспели к очередному поезду и вынуждены были сутки дожидаться следующего. На вокзале было душно, пришлось поставить близ станции палатку. Трофим долго отсутствовал.
– И я тебе принес подарок, – сказал он взволнованно, подавая Пугачеву карманные часы. – Хороши? Нравятся? Вспоминать будешь!
– Где ты их взял? – спросил я, встревоженный догадкой.
– На базаре, – ответил он гордо, будто перед ним стояли его прежние товарищи. – Знаете, и бумажник был в моих руках, да отобрал, стервец, – торопился он поделиться с нами. – Стоят два армянина, разговаривают, будто век не видались, я и потянул у одного из кармана деньги. Откуда-то подошел здоровенный мужик, цап меня за руку! «Ты, – говорит, – что делаешь, сукин сын?» – «Молчи, пополам», – предложил я ему. Он отвел меня в сторону, отобрал деньги и надавал подзатыльников. Я тут же сказал армянину, свалил все на мужика, ну и пошла потеха…
– Для чего ты это сделал, Трофим? – спросил я, не на шутку обеспокоенный его поведением. – Бери часы, и пойдем в милицию. Пора кончать с воровством.
– Что вы, в милицию! – испугался он. – Лучше я найду хозяина и отдам ему. Только на базаре будут бить. Страшно ведь, уже отвык…
Я настоял, однако, на своем. В милиции пришлось подробно рассказать о Трофиме. Впервые, слушая свою биографию, он, сам того не заметив, поотрывал на рубашке пуговицы.
Следователь подробно записал мои показания, допросил Трофима. Случай оказался необычным. Справедливость требовала оставить преступника на свободе, и, пока я писал поручительство за него, между следователем и Трофимом произошел такой разговор:
– Будешь еще воровством заниматься?
– Не знаю… Хочу бросить, да трудно. С детства привык.
– Ты где до экспедиции проживал?
– В Баку.
– Городской, значит. С кем ты там работал?
– Жил с беспризорниками.
– Ермака знаешь? Он ведь главарь у вас!
Трофим вдруг насторожился, выпрямился и, стиснув губы, упрямо посмотрел поверх следователя куда-то в окно. Пришлось вмешаться в разговор.
– Я ведь сказал вам, что парнишка уже год живет в экспедиции, поэтому вряд ли он что-либо скажет о Ермаке.
– Он знает. У них только допытаться нужно…
Следователь вышел из-за стола и, подойдя к Трофиму, испытующе заглянул ему в глаза. Мелкие рябинки на лице Трофима от напряжения заметно побелели. Видимо, невероятным усилием воли он сдерживал себя.
– Молчишь – значит знаешь! Говори, где скрывается Ермак?! – уже разгневанно допытывался следователь.
Трофим продолжал невозмутимо смотреть в окно. Следователя явно бесило поведение парня. Он бросил на пол окурок, размял его сапогом, но, поборов гнев, наигранно спокойно сказал:
– Все равно найдем Ермака. Он от нас не уйдет, а тобой надо бы заняться. Видимо, добрый гусь. Не зря ли вы ручаетесь за него, ведь подведет, – добавил он, обратившись ко мне.
– Не подведу, коль в жизнь пошел, – ответил за меня Трофим с достоинством и покраснел, может быть оттого, что еще не был уверен в своих словах.
– Ты только шкуру сменил, а воровать продолжаешь. Так далеко не уйдешь, – сказал следователь, принимая от меня письменное поручительство и часы.
Мы распрощались, и я с Трофимом вышел на улицу. Над станционным поселком плыло раскаленное солнце, затянутое прозрачной полумглой. Давила духота. По пыльной улице сонно шагал караван верблюдов, груженных вьюками.
– Когда же ты покончишь с воровскими делами? – спросил я Трофима.
Он посмотрел на меня доверчиво.
– Я-то покончил, а вот руки мои не могут отвыкнуть шарить по чужим карманам. Мне стыдно перед вами.
– Это хорошо, если стыдно. Скажи, кто такой Ермак, про которого спрашивал следователь.
– Был такой беспризорник… Его давно ищут…
– Где же он?
– Никто не знает.
Мы проводили Пугачева. Трофим весь этот день оставался замкнутым.
К сожалению, это был не последний случай воровства.
В 1932 году наша экспедиция вела геотопографические работы на курорте Цхалтубо. Мы с Трофимом возвращались в Тбилиси. На станции Кутаиси ждали прихода поезда. Трофим оставался у вещей, а я стоял у кассы. Необычно громко распахнулась дверь, и в зал ожидания ввалился, пошатываясь, мужчина. Окинув мутными глазами помещение, небрежно кивнув головой носильщику, он поставил два тяжелых чемодана возле Трофима.
– Билет!.. Батуми!.. – пробурчал вошедший, не взглянув на подбежавшего носильщика, и вытащил из левого кармана брюк толстую пачку крупных ассигнаций.
Носильщик ушел, а мужчина, подозрительно взглянув на Трофима, уселся на чемодан и стал всовывать деньги обратно в карман. Но это ему не удавалось. Углы кредиток так и остались торчать из его кармана. Мужчина был пьян. Он тер пухлыми руками раскрасневшееся лицо, мотал усатой головой, отбиваясь от наседавшей дремоты, но не устоял и уснул. Вижу, Трофим заволновался, стал подвигаться к спящему все ближе и ближе, а сам делает вид, что тоже дремлет. Одно мгновение, и я стоял между ним и деньгами.
– Гражданин, слышите, гражданин, у вас выпадут деньги!
– Что ты пристаешь, места тебе нет, что ли?! – пробурчал спросонья тот. – Ну и люди!
– Приберите деньги! – настаивал я.
– Ах, деньги… – вдруг спохватился он, вскакивая и энергично заталкивая кредитки в карман.
Я повернулся к Трофиму. Он сидел бледный, с искаженным лицом. Из прикушенной губы сбегали на подбородок одна за другой капельки крови. Наши взгляды сошлись. Мы так понимали друг друга, что не было необходимости в словах… Но я не должен был вообще умолчать об этом случае. Уже в поезде, оставшись наедине с ним, я сказал:
– Зачем, Трофим, ты сделал мне сегодня больно?
– Вы мне верите? – вдруг спросил он, окинув меня искренним взглядом. – Я деньги вернул бы грузину, они мне не нужны. Виновата привычка. Знаю, нехорошо поступаю, но куда мне идти с таким прошлым?..
Трофим никуда не ушел. Он окончательно прижился у нас, освоился с лагерной обстановкой, с общежитием. Правда, ранее привыкнув к острым ощущениям, к дерзостям, он долго не мирился с затишьем. Но время сделало свое дело. Труд постепенно заполнил образовавшуюся в душе Трофима пустоту. В характере парня пробуждались черты доброго, отзывчивого товарища, и он заслуженно стал гордостью всего коллектива. Но прошлое еще напоминало Трофиму о себе.
Мы делали карту Ткварчельского каменноугольного месторождения. Шел 1933 год. Я собирался ехать в отпуск, проведать мать. Все уже было готово к отъезду. Ждали машину. Кто-то из провожавших сообщил, что видел Трофима с беспризорниками. Меня всегда беспокоили такие встречи, и я немедленно отправился на розыски.
Трофим оказался около подвесного моста через реку Гализгу. С ним были молодой парень и Любка. Я остановился, не зная, что предпринять. Любка заметно подросла. Черты ее лица стали еще выразительнее. Она в упор смотрела на Трофима, потом вдруг шагнула к нему и, развернувшись, хлестнула рукою по щеке, раз, второй, третий. И все звонче, яростнее. Она была бесподобна в гневе! И вдруг все в ней погасло. Она отошла от Трофима, упала на канатные перила и заплакала.
«Нет, это уже не дружба. Это настоящая любовь», – подумал я, живо представив себе, какая опасность грозит Трофиму.
Тот подошел к ней, положил руку на плечо, но не сказал ни слова.
– Не хочешь вернуться? Уйди, продажная сволочь! – крикнула Любка, вскакивая и торопливо поправляя на голове косынку. Она хотела еще что-то сказать, но захлебнулась от злости. Оттолкнув Трофима, девушка схватила за руку парня, сидевшего рядом, и пошла с ним, легко скользя ногами по настилу. Уходила гордая, красивая.
Трофим бросился догонять их. Он бежал по раскачивающемуся мостику, хватался за канат и наконец остановился.
Я подошел к нему, загородив проход. Под нами пенистыми бурунами неслась Гализга. Вдали виднелись заснеженные вершины Кавказского хребта. Это было осенью. Леса пылали золотым отливом.
– Ты любишь ее? – спросил я, прерывая молчание.
Легкий румянец покрыл лицо Трофима.
– Я уговаривал ее остаться у нас. Да разве она бросит свое дело! Грозит мне, если не вернусь…
– Как она узнала, что ты здесь?
– Через беспризорников. После бегства Ермака из Баку там теперь Любка всеми руководит. Второй раз приехала.
– Об этом ты мне не говорил, а ведь обещал ничего не скрывать. Чем же Любка грозит?
– Она все может сделать…
– Ты хотел уйти с ней?
Трофим молчал. Видно, трудно ему было противостоять настойчивости такой властной и красивой девчонки. Что же делать? Не ехать в отпуск я не мог. Оставить Трофима одного было рискованно. Решил взять его с собой.
Он запротестовал. Ему, несомненно, хотелось еще встретиться с Любкой. Но я проявил настойчивость, и вечером того же дня мы с ним находились на теплоходе «Украина».
Моя мать знала о Трофиме из писем, и он не был для нее безразличен. Когда же мы приехали и она увидела его, загорелась к этому юноше настоящей материнской любовью. А сколько заботы было! Трофиму за обедом лучший кусочек положит, и горбушку припасет, и сливок холодных, и початок молодой сварит – все для него, как для самого младшего сына. Парень, бывало, уснет, а она усядется у его изголовья, наденет очки и начнет штопать носки, белье, да так и задремлет.
Во время отпуска Трофим сдружился с моей маленькой дочкой Риммой и племянницей Ирой. Странно было наблюдать за этим взрослым человеком, впервые попавшим в общество детей. Рассказывать им ему было нечего. Он не знал никаких игр, никогда не строил домики, не играл в прятки. Дети же необъяснимым чутьем все это угадали с первой встречи. И чего они только не делали с ним! То он был конем, на котором они путешествовали по двору, то петухом, и тогда его «кукареку» раздавалось чуть ли не на всю улицу. Играл он с увлечением, будто пытался восполнить утраченное детство.
Иногда, набегавшись, дети усаживались возле Трофима и рассказывали ему о Коньке-горбунке, о богатырях, о Красной Шапочке. Перед ним открывался сказочный мир, о котором он никогда не слышал…
О прошлом он и теперь не любил рассказывать и только в минуты откровенности, когда мы оставались с ним наедине, вспоминал какой-нибудь случай из беспризорной жизни. Иногда говорил и о Ермаке. Это имя, как мне казалось, всегда для него являлось олицетворением мужества.
Мы переехали в Сибирь и вели большую, интересную работу по созданию карт малоисследованных районов. Трофим возмужал, но не отличался хорошим здоровьем. Годы, прожитые в подвалах, и злоупотребление кокаином не дали молодому организму как следует окрепнуть. Трофим побывал с нами на Охотском побережье, в Тункинских Альпах, в Саянах, на Севере.
В 1941 году он ушел добровольцем на фронт. Война разлучила нас на пять лет, но экспедиция осталась для него родным домом. Он присылал нам проникновенные письма и всегда вспоминал в них как самое светлое первую нашу встречу у дороги в лагерь в Мильской степи. Ко времени демобилизации Трофим стал членом партии, имел звание капитана танковых войск. Нас он разыскал на Нижней Тунгуске и полностью отдался работе.
Как быстро пролетели годы! Ему ведь уже перевалило за тридцать лет.
Однажды мы с ним вечером засиделись в палатке.
– Не пора ли тебе, Трофим, жениться? Посмотри-ка, сколько у нас хороших девушек, – сказал я ему.
– Это не мои невесты.
– Неужели ты еще не забыл Любку?
– Нет. Да и не хочу забывать.
Спустя несколько лет, осенью, мы отдыхали с ним в Сочи. С возрастом у него все больше крепла любовь к детям. Стоило Трофиму появиться на пляже, как ребятишки тотчас окружали его. Играя с детворой, он сам превращался в ребенка. «Дядю Трошу» знали даже на соседних пляжах.
Как-то к Трофиму подошел бойкий мальчонка лет четырех, в новеньких голубых трусиках, и серьезно потребовал покатать его.
– А у тебя проездной билет есть? – спросил Трофим.
– Есть, – ответил тот уверенно и исчез среди загоравшей публики.
– На, – сказал он, возвратившись, и с гордостью подал фабричную этикетку, видимо от своих новых трусиков.
– Билет-то, кажется, просроченный, – пошутил Трофим. – Как тебя зовут?
– Трошка, – ответил мальчик бойко.
– Трошка?! – удивился тот, и лицо его вдруг стало грустным. Ему, вероятно, вспомнилось теперь уже далекое прошлое, заброшенные подвалы, трущобы. Овладев собой, он сказал: – Садись! Тезку покатаю бесплатно!
Мальчик, довольный, влез на спину Трофиму, обнял пухлыми ручонками за шею, и «конь», окруженный детворой, побежал по гальке вдоль берега. Только сказал он неуверенно, вяло, словно отяжелел.
А следом бежала женщина и кричала:
– Трошка!.. Трошка!..
Трофим вдруг остановился.
– Это мама меня зовет, – сказал мальчик, слезая с «коня» и устремляясь к матери.
Женщина и Трофим встретились взглядами, да так и замерли.
– Неужели Любка?!
– Трошка!.. – воскликнула та, бросаясь к нему.
Море дохнуло прохладой. Ленивая волна пробежала по гальке. Над пляжем беззаботно кружились крикливые чайки. Трофим и Любка стояли молча, держась за руки. Они могли так много сказать друг другу, но слова словно выпали из памяти. Какой безудержный прилив счастья должен испытать человек, когда он спустя много-много лет после томительных страданий встретил друга, к которому так долго хранил чувство любви и во имя которого переживал одиночество!..
Любка смотрела в открытые глаза Трофима. Она угадала все и смело потянулась навстречу.
Над морем плыло раскаленное солнце. В потоке расплавленных лучей серебрились крылья чаек. Жаркий ветерок нехотя скользил по пляжу. Детвора расходилась.
– Здравствуйте, Люба! – сказал я, протягивая ей руку.
Она покосилась на меня и, всматриваясь, пыталась что-то вспомнить.
– Ах, это вы! Неужели с тех пор вместе?
– Да, с тех пор мы вместе.
– Нина Георгиевна, – отрекомендовалась она, и мы пожали друг другу руки. – Любка – это было не мое имя.
Мы с Трофимом занимали комнату в санатории «Ривьера». Вечером в тот же день Нина Георгиевна пришла к нам, и сразу завязался разговор о наших встречах, о прошлом.
Передо мною была женщина лет тридцати. Те же пылкие глаза, тонкие губы и раздвоенный подбородок. На правой щеке чуть заметный шрам, а под глазами уже наметилась сетка морщинок. Во взгляде не осталось прежней девичьей дерзости. Нина Георгиевна была одета просто, но со вкусом. С прямых плеч низко спадало шелковое платье, перехваченное в талии тоненьким пояском. Обнаженные полные руки лоснились от загара. Крупные локоны черных густых волос спускались на смуглую шею.
– Могла ли я когда-нибудь поверить, что дерзкая девчонка Любка, профессиональная воровка, полюбит людей и труд? После бегства Ермака из Баку я стала заправилой. Мне нравилось командовать мальчишками, меня боялись, слушались. Провинившихся я с наслаждением шлепала по щекам. А теперь страшно подумать, какое терпение проявлял к нам советский народ и чего он только не прощал нам! А сколько раз меня щадил закон! Но все кончилось тюрьмой. Глупая была, и там задавала концерты, да еще с какими вариациями! Позже люди надоумили бросить все и жить, как все живут. Из тюрьмы вышла – не знаю, куда идти. Одна. Ни к чему не приспособлена. Поступила на табачную фабрику. И опять люди приласкали меня, определили в школу для взрослых. И словно второй раз родилась. Скоро бригадиром стала, замуж за нашего же инженера вышла. Теперь, когда на душе покой, а вокруг большая интересная жизнь, жутко оглянуться на прошлое. Нет в нем ни настоящего детства, ни радости юношеских дней… Смотрю я на своего маленького Трошку и завидую…
Трофим все свободное от процедур время проводил с нею. Перед отъездом он ходил мрачный. И вот однажды в нашей комнате я застал заплаканную Нину Георгиевну и очень расстроенного Трофима.
– Будьте вы моим судьею, – сказала она, обращаясь ко мне, и в ее голосе послышалось отчаяние. – Я люблю Трофима, но замужем, у меня сын и больной туберкулезом муж. Могу ли я бросить человека, который так много сделал для меня и для которого мой уход равносилен смерти? Трофим не хочет понять, что это было бы бесчеловечно.
– Пойми и ты, Нина, – перебил ее Трофим, – не во имя ли большого чувства к тебе я остался одиноким? Я пронес любовь через годы, бои, бессонные ночи. Пятнадцать лет я берег надежду, что мы встретимся. И теперь ты взываешь к человечности! Разве я также не имею права хотя бы на маленькое счастье?.. Впрочем, решай сама. Я не хочу выпрашивать, я ко многому привык в жизни.
– Ты достоин и счастья, и хорошей семьи, и мне больно выслушивать эти упреки, – сказала Нина, с трудом сдерживая волнение. – Жизнь оказалась куда сложнее, чем мы ее представляли когда-то в подвалах. Я по-прежнему люблю тебя, Трофим. Но я не могу, понимаешь, не могу разрушить семью… И ты не зови меня к себе. Может быть, это по отношению к тебе жестоко, но знаешь ли ты, какими страданиями я заплачу за нашу встречу?!
Она вдруг отошла к раскрытому окну. Плакала молча. А за окном, как и в день их первой встречи, море ленивой волной перебирало гальку и так же серебрились в лучах раскаленного солнца крылья беззаботных чаек.
Мы с Трофимом уехали в Саяны в экспедицию, а Нина Георгиевна вернулась в Ростов к мужу.
Трофим загрустил. Ни горы, ни тайга не веселили его. Работой глушил он свое чувство. Не в меру стал рисковать. А Нина Георгиевна, видимо, решила окончательно порвать с ним. Вот уже год, как она перестала отвечать на письма. Даже на мои.
Тайна Алгычанского пика
Все это вспоминалось мне в ту ночь, когда стало ясно, что Королев со своими людьми погиб. Теперь нам остается разыскать трупы, выяснить причины катастрофы.
На следующий день решили обследовать единственный проход к пику, взобраться на вершину и узнать, куда же исчезла пирамида. А проводники перекочуют ближе к лесу. Там, где мы стоим лагерем, очень крепкий снег, олени не могут копытить и уходят далеко вниз.
На этот раз идем все трое. День обещает быть хорошим. Восход солнца застает нас в пути.
От лагеря лощина сразу сужается и узкой бороздою въедается в голец. Передвигаемся медленно, присматриваясь к волнистой поверхности снега. Но и тут не видно даже признаков недавнего пребывания людей, все сглажено или запорошено выпавшим позавчера снегом.
За последним поворотом лощина неожиданно раздваивается, и мы видим гору грязного снега, смешанного с камнями. Это остатки обвала. Его следы лежат широкой полосой по ребристым террасам Алгычана. Главная масса сдернутого снега и камней слетела в развилку лощины, часть даже перемахнула ее и наростом прилипла к противоположному откосу. Мы молча стоим у застывшей лавины, которая, быть может, стала могильным курганом над близкими нам людьми. Потом тщательно осматриваем снежные глыбы, сжатые гармошкой, поднимаемся на верх обвала и в щели находим рюкзак. В нем гвозди и веревка. Больше ничего… Сомнений не осталось: товарищи погибли. Видимо, их захватила лавина.
– Там вон на скале вроде площадка… Надо бы тур выложить и имена высечь на камне, – говорит Василий Николаевич, кивнув головою в сторону левой скалы.
С минуту длится скорбное молчание.
Затем мы взбираемся на скалу и собираем плиты для могильного тура.
Вдруг снизу долетел выстрел. Нашим следом быстро поднимался человек, таща за собой какой-то груз.
– Никак Афанасий! – сказал Геннадий. – Не случилось ли еще какой беды?
Афанасий, заметив нас, остановился, снова выстрелил и стал махать руками, кричать.
– Люди там!.. Люди!.. – наконец разобрали мы.
– Где? Какие люди? – кричал, в свою очередь, Василий Николаевич.
– На Адгычане, на самом верху.
Мы побежали вниз, падая, кувыркаясь.
– Я же говорил, не такие ребята, чтобы погибнуть! – кричал Геннадий.
Афанасий передохнул и стал рассказывать:
– Как только мы палатку поставили, Николай и говорит: «Смотри, однако, на Алгычане дым!» Я посмотрел – и верно, дым. Вот и побежал сюда. На таборе захватил ящик с продуктами, взял веревок, может, нужно будет.
– Не перед пургой ли курятся сопки? – перебил я его.
– Хо… Я что, дым не знаю? Говорю, люди живут на Алгычане. Надо идти туда, стрелять, пусть услышат. – И, перезарядив ружье, он выстрелил.
Сверху послышался протяжный гул. Меньше чем через минуту он повторился, еще и еще.
Геннадий схватил за плечо Василия Николаевича.
– Слышите, камни бросают? Значит, верно, живы…
Теперь, как никогда, нужно было торопиться к ним, к нашим попавшим в беду товарищам. Никакие препятствия или преграды не могли уже задержать нас.
Мы кинулись вверх. Какая крутизна! Нам бы ни за что не взобраться без специального снаряжения, если бы под нашими ногами не было свежего, еще не заледеневшего снега. Над нами с двух сторон возвышались скалы, а выше виднелись утесы и глыбы разрушенных стен, чудом удерживающихся на склоне гольца. Там-то и зарождаются обвалы, потрясающие Алгычан и сдирающие с гольца зачатки растительной жизни.
День принес тепло. Василий Николаевич шел впереди, отмеряя крутизну мелкими шагами. За ним мы тянули на веревке лыжи с грузом.
– Доберемся вон до того выступа и отдохнем, – подбадривал Василий Николаевич.
Чем выше, тем чаще попадались затвердевшие передувы. Трудно стало выбирать ступени. Ноги скользили, рукам не за что ухватиться.
Наконец мы у уступа, но Василий Николаевич, забыв про обещанный отдых, продолжал карабкаться дальше, торопился, местами полз на животе, оставляя на снегу отпечатки вдавленных пальцев.
– Вон на плиту взберемся, там легче будет… А ну, вперед…
Так, не отдыхая, забыв про усталость, мы взбирались все выше и выше. До пика уже оставалось немного. Но путь неожиданно преградила совершенно отвесная стена снежного надува. Тут только мы догадались, что произошло с людьми на Алгычане.
Обвал, остатки которого лежали на дне лощины, зародился именно здесь. Он оставил отвесную стену надува и отрезал наших товарищей, находившихся на пике. Ни по снежной стене, ни по скалистым бортам щели, да и в других местах нельзя было спуститься. Они остались обреченными на смерть, вдали от жилья, на гольце.
– У-у-гу!.. – закричал Геннадий.
Эхо оттолкнулось от ворчливых скал, скользнуло по откосам в ущелье и, не вернувшись, заглохло.
Через минуту вверху загрохотали камни. Затем донеслись ответные крики. Люди спустили нам камень с запиской, привязанной к тонкой, сплетенной из лоскутков трикотажного белья веревочке.
«Кто вы? – писали они. – Мы геодезисты, нас пятеро, попали в беду, не можем спуститься. Сегодня дожгли последние остатки пирамиды. Помогите, подайте веревку, мы седьмой день голодные, совсем обессилели, есть тяжелобольной. Юшманов».
«Не волнуйтесь, – писал я. – Мы приехали разыскивать вас. Рады, что все живы. Вяжем лестницу, через час подадим конец, закрепите его, и мы поднимемся к вам».
Веревочная лестница без палок оказалась очень неудобной для подъема, но все же нам удалось взобраться наверх. Четверо товарищей поджидали нас у края надува.
Перед нами стояли люди, полностью истощенные, со скуластыми лицами и до того черные, будто обугленные. Глаза у всех ввалились и потускнели, губы высохли. Худое и костлявое тело прикрывали лохмотья полусгоревшей одежды. Никого из них распознать было невозможно.