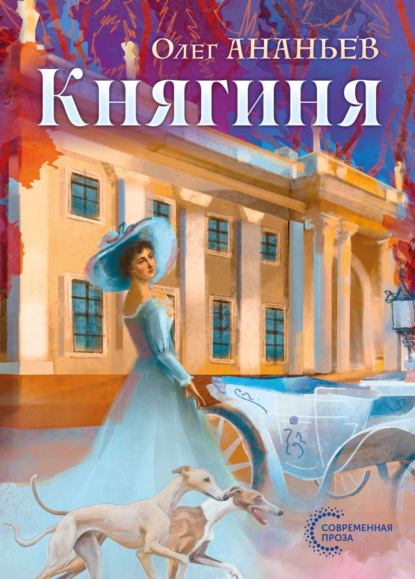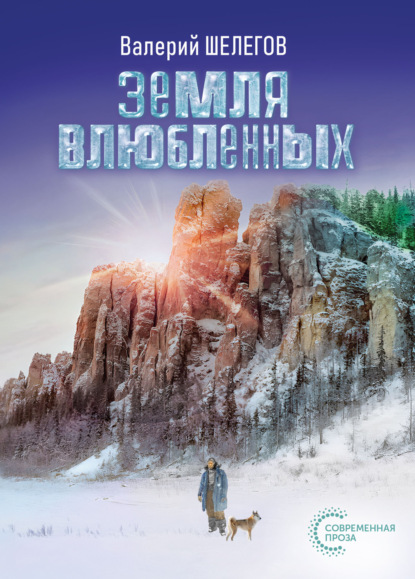Полная версия
Большая река течёт тихо
Когда переселились жить в клеть, то и хозяйство у них теперь стало отдельное, своё. Конечно же, корова и всякая другая живность. Только сарай стоял рядом с родительским. И вот однажды заметила Елена, что их корова стала совсем плохо доиться: мало давать молока. С чего бы это? Было до недавнего времени всё хорошо, и вдруг… «Наверное, кто-то позавидовал и сглазил», – подумала она. И свекровь догадку подтвердила: дескать, да, нехороший глаз у кого-то, а то и специально «сделали». Бывают такие знахари-колдуны, что «стягивают» у чужих коров молоко. И посоветовала, как надо поступить в подобном случае.
– Ты сделай так, – говорила она, – когда процедишь молоко и помоешь подойник, то воду ту не выливай где попало. А возьми и вылей на четыре угла сарая, где стоит корова. Потом войди внутрь, закрой за собой дверь и три раза произнеси следующие слова: «Захожу в хлев, закрываю за собою ворота. Замыкаю вымя коровье от чужого сглаза и приворота». И после этого посмотришь, куда и что денется!
Елена так и поступила. И правда, на следующий день корова и утром, и вечером дала намного больше молока. «Ого, как заклинание подействовало!» – обрадовалась Елена. Но радость была недолгой: прошло несколько дней, и вновь корова стала давать мало молока. Вновь Елена прибегнула к тому заклинанию. Но теперь почему-то не помогало. И тут что-то «тюкнуло» ей в голову: а что, если… И решила проверить. Вечером, когда скотина с пастбища приходила домой, Елена ещё была на поле. Скотину в сарай загоняла или свекровь – и свою и, невесткину, или же кто-то из детей. Свекровь свою доила сразу, а невестки стояла в своём сарае, дожидаясь прихода хозяйки. В этот раз Елена попросила среднюю дочку: мол, ты играйся возле сараев и никуда не уходи, пока я не приду с поля. «Если бабушка будет тебя даже и прогонять, всё равно не уходи и жди меня». Так и произошло: Валя стала кататься возле сараев на трёхколёсном велосипеде. Бабушка подоила свою корову, вышла с подойником и украдкой посмотрела на другой сарай. Но, увидев неподалёку внучку, с бранью накинулась на неё: «А чого ты, такая здоровая девка, да на гэтым роверчыку катаешься, постыдилась бы! Иди лепш у хату». Та не послушалась. Бабушка аж замахнулась на неё. Та всё равно – ни в какую не уходит. Бабушка повозмущалась, потопталась воле сарая невестки и ушла к себе в хату. В тот раз Елена, придя с поля, подоила корову, и молока, на удивление, оказалось достаточно много. И тогда она поняла, куда девалось молоко всё это время. И свекровь, видно, догадавшись, что её коварство раскусили, больше не пыталась таким образом вредить невестке.
Земли у Елены и Степана было немного, поэтому Степан больше работал, скажем так, на отхожих промыслах. Долгое время был пильщиком на тартаке. Тартак – это такая своеобразная пилорама, где брёвна распиливают вручную специальными пилами. Втаскивали бревно на высокие козлы. Один или два человека влезали наверх, столько же находилось внизу, и при помощи длинной пилы распиливали бревно на доски или брусья. Несладко приходилось тем, кто внизу. Хоть пилу тянуть вниз легче, чем вверх, но зато на них сыпались все опилки. На голову, на плечи, в лицо, в глаза. У Степана по той причине потом всю жизнь слезились глаза, болели, были красные вывернутые веки. И хоть работа была не из лёгких, но всё же можно было заработать хоть какие-то деньги. Благодаря этому, скопив немного, они решили построить собственную хату, не всё же жить в этой клети. Здесь же, на этом дворе, и начали строить. Но, чтобы закончить, средств не хватило. В то время западная часть Беларуси входила в состав буржуазной Польши. И польские власти им предложили такой вариант: дескать, мы вам помогаем достроить хату, а вы нам её сдаёте в аренду под школу на пять лет, и только после этого срока она будет ваша. Елена и Степан согласились на это условие. Продолжали жить в клети, но радовались теперь, теша себя мыслью, что через пять лет справят новоселье в новой собственной хате.
Ближе к концу жизни свекровь – мать Степана – поняла и оценила, что жена старшего сына всё же самая лучшая невестка. И уже когда лежала больная, то еду из рук ни от одной невестки не принимала, только от Елены. Даже своим дочерям не доверяла: не желала, чтобы они её кормили.
Степан позже ушёл с тартака в рыболовецкую артель. Они выходили на лодках в Припять и забрасывали сети, ловили рыбу. Впоследствии эта рыболовецкая деятельность даже спасла его от призыва на фронт.
8
После того как Сусанну отправили к родителям, через какое-то время Поля с детьми вновь вернулась в дом Скарабеевых. С ней стал жить Иван, теперь единственный оставшийся в живых из братьев. Полина стала его женой. Как это произошло? Можно предположить несколько версий. Первая. Поля Ивану нравилась и раньше. И когда Сусанны не стало в их доме, он сказал матери, что неплохо бы было вернуть Полю с детьми, мол, я хочу с нею теперь жить. Вторая. Мать сама предложила ему такой вариант. Мол, плохо в доме без хозяйки, а я уже старая, тяжело без помощницы, не позвать ли нам обратно вдову покойного Бориса, да ты жил бы с нею. Но более вероятной нам представляется третья версия.
Полине с Иваном, уже после того как она ушла из их дома, хочешь не хочешь, приходилось встречаться и общаться. Где? Да на том же поле, на сенокосе. Ведь выделенная ей земля являлась частью их земли – то есть долей покойного Бориса. Молодой мужчина, молодая женщина, к тому же хороша собой. Вполне возможно, что, когда остались друг с другом наедине, между ними могла произойти физическая близость. И после этого молодая женщина могла оказаться в положении. При очередной встрече намекнула на подобное обстоятельство деверю (брат мужа). Тот сначала этому не придал значения, она и в другой раз сказала. Не поверил или, например, отшутился: мол, а кто тебя знает, от кого это, может, ты, кроме меня, ещё с кем-то встречаешься. А потом уже и сам обратил внимание на её округлившийся живот. И тогда принял решение, что надо что-то делать. Например, предложил матери вернуть Полину с детьми обратно в их семью. Мать, может, сначала не слишком и обрадовала подобная перспектива. Скажем, она думала, что сын женится теперь на молодой девушке, коль первый брак оказался неудачным. Но, поразмыслив, решила: пусть будет, как уже начало складываться. Здесь тоже есть свои плюсы. Дети покойного сына будут под присмотром, родной дядя и родная бабушка теперь будут с ними. Притом эту Полю они хорошо знают, и она их тоже. А то придёт вновь чужая, незнакомая в их семью. Хорошо, если хорошая, а, не дай Бог, вновь как Сусанна. Обжёгшись на молоке, дуют на воду. Да и земля не будет дробиться, вернётся обратно, что было уже отделено. Да и неплохая она, эта Поля: скромная, работящая, пусть живут с Иваном, коль уж так получилось.
Для самой же Поли подобное тоже было лестно. И в моральном плане, и в материальном. Во-первых, очень лестно, что востребована ты как женщина. В том числе и из-за эффектной внешности. Попробуй выйди второй раз замуж, да с детьми, да за мужчину младше себя. Другую и в девках брать никто не хочет, а тут берут даже при всех «отягчающих» обстоятельствах. Да ещё повторно в ту же самую семью. Это же кое о чём да говорит. Значит, зарекомендовала себя не самым худшим образом, коль рады её здесь видеть и вновь. «И для детей хорошо – родной дядя будет отчимом. Да и сама их знаю, не в чужую ж семью иду. И почти вся их земля достанется теперь. Одно только плохо, что, получается, при живой жене пришла я к нему. Нехорошо. Особенно со стороны, словно вот взяла и отбила от жены мужа», – рассуждала тогда Полина.
И стал Иван жить с Полиной как с женой. Они не расписывались и не венчались, а просто жили вместе и имели детей. Расписаться не могли потому, что надо было сначала развестись Ивану с Сусанной официально. Добиться её согласия на развод. И, возможно, опасались, что она, будучи в неадекватном состоянии, не даст согласия, от неё ничего не добьёшься. Да и волокита это какая, особенно для людей, непривычных к хождению по всяким бюрократическим инстанциям. А повенчаться тоже не могли. Да кто же повенчает при живой супруге с другой женщиной – об этом не могло быть и речи.
У них родилось четверо детей: три девчонки и один парень. Сначала Ева, потом Соня. За Соней родился мальчик Коля, за ним ещё Марина. Марину Поля родила уже в сорокалетнем возрасте.
Чтобы прокормить большую семью – шестеро детей да трое взрослых, – приходилось много работать. Весна, лето, осень – всё в трудах. Может, зимой только несколько меньше становилось у крестьянина работы. Да и то. Надо было ехать по сено, по дрова. Хата была большая, но плохо утеплённая. Стояла, возвышалась на горе, всем ветрам открытая. Топить приходилось много. Ведь и пищу тогда готовили только в печке, поэтому дров требовалось достаточное количество.
Отдых, развлечения у Ивана были такие. Вечером после всех дневных трудов любил забраться на печь, свернуть цигарку и покурить немного, как теперь говорят, расслабиться. Такой у него был отдых или род удовольствия. Да, вот так вот: немного покурить вечером, забравшись на печь после всех трудов. Во время работы или в перерывах – не курил. Почему? Тогда, во время буржуазной Польши, табак стоил дорого. Свой сажать не разрешалось. Производство водки, табака являлось государственной монополией. И попробуй только кто гнать самогонку или выращивать табак. Власти взгреют так, что мало не покажется. Упрячут в тюрьму, как за какую-нибудь политику. Изредка супруга Поля шла в еврейскую лавку и покупала осьмушку табака для мужа. Он был очень за это ей признателен.
Считался Иван совсем малограмотным. Были у них в доме святые книги, и по воскресеньям или праздничным дням он якобы немного и почитывал их. Но писать не умел. Перед властями выдавал себя за полностью неграмотного, мол, так проще, меньше спрос. Вместо росписи прикладывал к бумаге палец, обмакнув в чернила.
Закадычных друзей у него не было. Что, может, в силу малообщительного характера, а также постоянной загруженности работой не способствовало общению с друзьями. В воскресные и праздничные дни обычно никуда не ходил, оставался дома. Да и жили они на хуторе, до ближайших соседей – и то, как говорится, не близкий свет. Если ты в улице, в центре местечка вышел со двора, смотришь, где-то мужчины собрались, подошёл, поговорил, уже какое-никакое общение. А тут – никого во всю округу. Но, может быть, основная причина отсутствия закадычных друзей – это всё же черта характера: малообщительность, особенно с посторонними людьми. Рассказывали, когда надо было заколоть кабанчика, а самому это бывает сделать не всегда сподручно, то Иван никого не приглашал из соседей по хутору или родственников мужчин себе в помощь. А требовал у матери, чтобы та помогала ему в этом деле. Чтобы держала кабанчика, а он будет закалывать. Та и боится, и жалеет, но ничего поделать не может, приходится помогать сыну, держать закалываемого кабанчика.
Плохо было жить на хуторе ещё и потому, что страдали они сильно от воровства. Хата стояла на песчаном холме, а сараи для скотины и гумно находились внизу, несколько поодаль. Воры повадились на их хутор, бывало, снопы необмолоченные из гумна утащат. Однажды зимой вынесли снопы ржи и тут же на льду замёрзшей струги (низина на лугу) их обмолотили. Зерно собрали в мешки и унесли с собой, а солому тут же бросили. А то заберутся на чердак и унесут запасы лозы, заготовленные для плетения лаптей на целый год. Этакие высохшие скрутки, которые могли храниться довольно продолжительное время. Когда надо, их размачивали в воде и плели из них лапти.
С этими ворами бороться не было никаких сил. Иван по нескольку раз вставал ночью и выходил проверять, всё ли на месте. Однажды, когда он так вышел, воры уже успели разобрать воз (телегу). Взяли оси, колёса и понесли. Он схватил в руки кол и кинулся за ними навздогон. Те, испугавшись, бросили свою ношу и убежали.
Воровали и мелкий скот: овец, ягнят, курей. Выкапывали из ямы картофель, зарытый на хранение.
Когда уже спустя годы внукам деда Ивана и бабушки Поли матери рассказывали обо всех этих проблемах с воровством, те удивлялись: мол, неужели нельзя было в этой ситуации что-то сделать, принять какие действенные меры? «Ну, например, – рассуждали они, – обнести всю усадьбу забором, или собаку хорошую сторожевую завести? Или же разместить компактно, близко возле хаты, все хозяйственные постройки?» Но всё это было тогда, в тех условиях невыполнимо. Обнести забором? Во-первых, постройки одна от другой удалены. Чтобы всё это огородить, нужно очень много материала, и труда вложить немало. А когда этим заниматься? Отец и так трудился не покладая рук – один всю мужскую работу тянул по хозяйству. Далее, огородить чем? Забором из досок или штакетника? Но на это надо уйму денег, чтобы всё это закупить: и пиломатериалы, и гвозди. А денег и вовсе на руках не было, ведь вели натуральное хозяйство. Самое необходимое в лавке у евреев и то покупали в обмен на сельхозпродукты. Огородить плетнём из лозы? Это проще. Но, опять же, уйма материала потребуется и колоссальный труд. А эффект – нулевой. Разве составит труда вору перелезть через какой-то плетень. Ещё и сам плетень воры станут растаскивать себе на дрова. Завести свирепого пса? Но и его убьют или отравят, если к нему можно будет подойти со всех сторон, и он один без хозяина. Перенести хозпостройки и расположить их компактно рядом с домом? Но, во-первых, все хозпостройки на холме возле дома не поместятся. Если бы это можно было, так и сделали бы, наверное, сразу при строительстве. Дом спустить ближе к сараям и гумну? Это было бы, пожалуй, наиболее правильно. Но разобрать его, а потом собрать – это всё равно, что заново построить. Нужно нанимать целую артель плотников. И сделать это можно только летом. Когда дом разберут, самим можно пожить где-то в сарае, клуне. Но летом самый разгар сельхозработ – день год кормит, упустишь – не наверстаешь. Будет сложно собрать мужчин-односельчан для работы, потому что и те заняты в своём хозяйстве. Но, главное, надо будет договориться, организовать всё, спланировать. А Ивану, в силу его характера, это было бы довольно проблематично. Поэтому пусть всё будет как есть: время от времени вставать ночью с печи, выбегать во двор и гонять воров.
Также внуки удивлялись, почему нельзя было достаточно хорошо утеплить хату, а без конца возить и возить дрова и, образно говоря, топить улицу? Действительно, та хата, пожалуй, имела вид недостроенной, незавершённой. В окнах были только одинарные рамы, других не было, которые обычно вставляют на зиму, а на лето выставляют и уносят на чердак. Пола не было тоже, в некоторых комнатах даже глинобитного, просто песок под ногами. Скорее всего, когда её перевозили из местечка на хутор, то, вполне вероятно, торопились. Например, успеть до наступления холодов сделать хотя бы основное, чтобы можно было заселиться и перезимовать. «А вот уже пол, дополнительные рамы – это не к спеху, – рассуждали тогда, – это мелочи, сделаем потом». А потом что-то было недосуг, к тому же рано умер отец их. А сыновья – молодые, не было ни умения, ни желания этим заниматься. Затем стали болеть и все поумирали, кроме среднего – Ивана. А тому тоже было недосуг этим заниматься. Привычнее и проще – постоянно ездить и возить дрова.
9
Вся земля, принадлежавшая некогда Скарабеевым, за исключением выделенной Зое с детьми, отошла теперь Полине вместе с мужем. С одной стороны – богатство. А с другой – огромнейший труд – содержать в порядке всё это хозяйство. Жизнь твоя зависит от того, что произведёшь своими руками. Земли должно хватить, чтобы на ней посеять жито. Это хлеб – основа основ питания семьи крестьянина. Для булок, блинов, затирки нужна белая мука, значит, сеем ещё и пшеницу. Второй после хлеба продукт на столе крестьянина – конечно же, картофель. Значит, и ему отводим значительную часть поля. Дальше идут три важные крупяные культуры, это если мы хотим, кроме хлеба и картофеля, кушать ещё и кашу. Первая – просо, из неё будет пшённая каша. На втором месте – гречиха, гречневую кашу будем есть, да и блины гречневые очень уж хороши. Третья культура – ячмень, из него – ячневая крупа, или перловка. Из ячменя ещё и пиво делают, но это не везде, и не все умеют. Также надо отвести земли и под овёс. Если есть в хозяйстве лошадь, а без лошади крестьянину никак, то и без овса нам не обойтись. А также овёс сгодится и себе на еду – овсяный кисель, каша овсяная. Нужны к столу и различные овощи. Это выращивается чаще всего поблизости от дома, на приусадебном участке – огороде, на грядках. Тут слишком много земли не требуется. Сад, пасека с пчёлами – это даже и необязательно, но тоже неплохо, если есть.
И осталась ещё одна важная статья – это повседневная одежда, бельё нижнее, постельное и прочее. Откуда всё это берётся? Тоже изготавливается своими руками. А для этого опять же требуется немалый кусок земли. Чтобы посеять лён, земля должна быть не абы какая, а хорошая, удобренная, унавоженная. На такой земле и лён будет отменного качества – тонковолокнистый, прочный, шелковистый. Хуже земля – хуже и качество льна. Также нужна ещё и конопля нам. А это уже для чего? А это более грубый материал, в отличие от льна. Из конопляного волокна вьют верёвки (волоки). Прядут также нитки и ткут ткань, из такой ткани шьют мешки, дерюги, половики под ноги и прочее. Льняное и конопляное, выжатое из семени масло идёт в пищу. Кроме льна, для изготовления одежды идут овечьи шкуры – овчина, шерсть. Из шерсти – сукно, валенки, из пряжи вяжут свитера, кофты, носки, варежки. Из овчины – полушубки, тулупы, шапки.
Обувь – в основном лапти, их называли «постолы». Кто победнее, их носили и зимой, и летом. Сапоги, ботинки (чаравики) были не у всех, да и то только для торжественных случаев: на свадьбу, на праздник в церковь пойти. А летом можно и вовсе без всякой обуви – босиком.
Кроме овец, из скота – лошадь и корова – обязательно. Если очень бедные и коровы нет, то хотя бы коза. Свиньи тоже нужны, чтобы сало, мясо было. Куры – чаще всего для яиц, не столько для мяса. Реже встречались в хозяйстве утки, гуси, ещё реже – индюки. От домашних животных в дело идёт почти всё, даже навоз. Как же иначе поля удобрять. Минеральные удобрения тогда не применяли, за исключением, может, какой-нибудь извести для снижения кислотности почвы, и то в редких случаях.
Много работы было со льном, особенно для женщины. Мужчина только вспашет землю да посеет. Остальное уже всё за женщиной: и полоть, и рвать, стелить. А сколько работы потом – теребить, трепать, отбеливать, прясть, ткать, шить одежду уже из готового полотна. Забота мужчины – обуть семью: надрать лыка из лозы, сплести лапти всем, свить волоки.
Женщине же всегда в семье работы было больше, нежели мужчине. К вечеру летом, возвращаясь с поля, дома у женщины начинался новый этап трудовой деятельности. Может, ещё более ответственный и не менее напряжённый, чем в поле. Посудите сами: приготовить, собрать ужин, усадить всех за стол, накормить – её забота. Подоить корову, пришедшую с пастбища, настелить, дать сена на ночь. Детей помыть, привести в порядок, уложить спать. Помыть посуду. Бывало, что в таких случаях сама женщина могла отправиться спать только далеко за полночь. А утром раньше всех надо встать, подоить и выгнать корову на пастбище. Растопить печь, приготовить завтрак, заодно и обед уже. Всех покормить, всем угодить и только после этого отправляться на поле на весь день. А если маленький ребёнок, да не на кого оставить, то надо брать его за плечи вместе с колыской и нести с собою на поле.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.