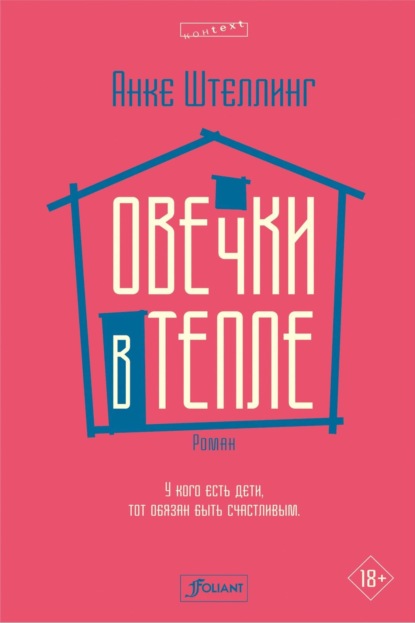Полная версия
Встретимся в музее
Я не знаю, насколько велика была община в городище Уорхэм Кемп, но там проживало несколько семей и, вероятно, располагалось около тридцати хижин. Подобные укрепления возводились, чтобы охватить достаточно земли, способной содержать такое количество человек, а не для оборонительных целей, хотя не исключены были и набеги недругов. Люди в таких общинах вели оседлый образ жизни и занимались сельским хозяйством. Ваши фантазии о выходящих к Вам мужчинах с серпами и стадом овец недалеки от истины. На окрестных полях они летом выращивали зерновые культуры, распахивали землю с помощью быков, собирали серпами урожай кукурузы и высушивали початки на зиму. Они держали скот не только для работ на земле, но и на мясо, а также для выделки кожи, из которой шили одежду, и прочих жизненных нужд. У нас есть доказательства того, что люди железного века питались преимущественно говядиной. Кроме того, мы располагаем сведениями, что жители подобных городищ держали овец, но баранину ели нечасто. Можно сделать вывод, что их выращивали в основном ради шерсти: прядение было одним из распространенных занятий наряду с гончарным делом. В летнее время скот выгоняли на отдаленные пастбища, а зимой приводили обратно – удобрять и распахивать почву.
Большинство жителей городища Уорхэм Хилл Форт подчинялись одному вождю. Это был богатый мужчина из общины, которому присягала группа воинов. Он владел достаточным количеством земли, чтобы кормить себя и свою семью и содержать работников, необходимых для продуктивного хозяйствования. Существовала иерархия, в которой самую нижнюю ступень занимали рабочие, они же крестьяне. Они могли быть рабами, но даже тот, кто номинально назывался свободным, не имел иного способа обеспечить себя пропитанием и кровом, кроме трудного служения вождю. Его хижина отличалась большими размерами, в ней имелась дополнительная комната или открытая веранда. Вождь владел более изящными вещами и предметами одежды. Даже после смерти к нему относились иначе, чем к другим членам общины. Его кремировали и хоронили прах в аккуратно выкопанной могиле – в урне или затейливо украшенном сосуде, а вместе с прахом в могилу складывали ценные или полезные в загробной жизни предметы, как будто после смерти его ожидало перерождение и новая жизнь. К праху бедняков относились с меньшим почтением, хотя в их могилах тоже обнаруживались красивые или полезные вещицы, за исключением разве что могил самых нищих.
Жители городища подчинялись вождю в земных делах, но их духовными проводниками были друиды, которые учили людей вере в жизнь после смерти. Именно поэтому так важно было оставить возле себя нечто материальное, что помогло бы человеческой душе перейти на следующий уровень жизни, каким бы он ни был.
Найти археологические свидетельства жизни женщин в этом типе общества оказалось трудно. Однако после Римского завоевания Британии у нас в распоряжении появились письменные источники. О племенах, проживавших в тех районах, которые римляне завоевали в первую очередь, Цезарь пишет, что жены там принадлежали целой группе из десяти или даже двенадцати мужчин в одной семье, поэтому братья, отец или сыновья мужчины, взявшего женщину в дом, тоже могли «пользоваться» ею, как своей женой. При этом все ее дети считались детьми ее законного мужа, вне зависимости от того, кто был их настоящим отцом. По свидетельству Цезаря, мужья имели право распоряжаться жизнью своих жен. Но не будем забывать, что к племени иценов принадлежала знаменитая Боудикка, и именно она возглавила антиримское восстание, так что женщины в Уорхэм Кемпе, возможно, не были так уж покорны своим мужьям.
Боюсь, я утомил Вас большим количеством деталей, которые не способен передать в хоть сколько-нибудь интересной форме. Так что на этом остановлюсь. Однако отмечу последнее насчет Вашей поездки. В Дании невозможно представить себе ситуацию, при которой одна женщина, увидев другую, сидящую в одиночестве на траве, заговорила бы с ней. Мне кажется, любой датчанин или датчанка подумали бы, что Вы сидите в одиночестве, потому что сами так захотели, и отнеслись бы к этому решению с уважением. Возможно, этой женщине, Марион, следовало бы удержаться от нарушения Ваших личных границ, и, возможно, Вы сами надеялись, что она так и поступит, но я очень рад, что Марион стала частью Вашего рассказа. Без этой встречи история была бы неполной, а Ваше путешествие – не таким важным.
Спасибо за то, что поделились этой историей со мной.
Андерс
Бери-Сент-Эдмундс
20 апреля
Дорогой Андерс,
как жаль, что я не получила от Вас такого письма до поездки в Уорхэм Кемп. Вы правы: находясь там, я хотела в первую очередь понять и почувствовать, как жили эти люди, каким находили свое существование там и тогда. Марион рассказывала скорее про артефакты, которые они оставили после себя, но не о том, как они жили. Вы же поделились со мной подробностями, и теперь я могу ярче представить жизнь тех людей. Даже если описать жизнь конкретного человека из железного века невозможно, я могу вообразить, что видела, слышала и какие запахи ощущала женщина, когда она, скажем, стояла в дверях дома, высматривая, все ли в порядке с ее мужем и детьми. Я рисую в воображении стадо быков, которых гонят в поле с тяжелыми плугами за спиной. Сквозь пелену времени я вижу грязь, которую месят ноги людей и копыта быков. Слышу перекличку мужчин и мычание рогатого скота, слышу грохот и жужжание машин, с помощью которых община производит все, что ей нужно (ткани, посуду). Могу представить себе голоса детей. Вы не упоминаете игрушки, но наверняка в те времена уже существовали детские игры и предметы, сделанные для них? Я так и вижу, как женщина моргает и щурится, выходя на свет из полумрака хижины, и не могу не ощущать ее волнение, когда она оглядывается и прислушивается, опасаясь неожиданностей. Должно быть, она вдыхает запах дыма и продуктов жизнедеятельности животных и людей.
Я представляла себе эту женщину, выходя из дома в то утро, когда получила Ваше письмо. День был пасмурный, облака сгустились за сараем, и хотя дождь еще не начался, на улице уже стало темнее, чем дома. Я вышла во двор, как и каждое утро, чтобы дать корм курам. Может быть, это делала и та женщина. Вы не упоминаете домашнюю птицу, возможно, ее следы не сохранились или породы птиц, годных в пищу, в то время еще не вывели. Не знаю точно, что держала в руках моя женщина из железного века, но я лично несла корм в старом пластмассовом ведерке, в котором когда-то продавался крысиный яд. Что бы ни было у нее в руке, наверняка можно сказать одно: этот предмет точно не был сделан из пластмассы и не использовался прежде для эффективного уничтожения грызунов. Предполагаю, что именно грызунов она видела перед собой, стоя в дверях и глядя во двор, и скорее всего принимала их как нечто неизбежное. Наш задний дворик забетонирован, и поскольку Эдвард очень аккуратный фермер, там всегда чисто. Я слышала рев заведенного квадроцикла. Это наш сын Тэм, который живет в домике в паре сотен метров от фермы, отправился проверить овец на пастбище. Через открытую дверь за моей спиной доносились звуки радио. Несмотря на то, что Тэм живет совсем рядом и у него двое маленьких детей, их я не слышу. В этом смысле жизнь женщины из железного века была богаче моей. Однако, наблюдая за внуками, я с удовольствием делаю вывод, что каждый день жизни для них – это приключение, в то время как в железном веке, осмелюсь предположить, каждый день жизни ребенка матери и бабушки считали битвой, в которой они одержали победу. Я чувствовала запах жимолости, растущей за стенами сада, и не столь приятные ароматы из тележки с навозом, приготовленной для удобрения полей.
Должно быть, я простояла с ведерком в руках довольно долго, потому что во двор вышел Эдвард и поинтересовался, не случилось ли чего.
– Нет, все хорошо, – ответила я. – Просто осматриваюсь.
Он встал рядом со мной, и мы еще какое-то время постояли, глядя вокруг. Он указал мне на водосточную трубу, нуждающуюся в ремонте, а потом на куст крапивы, который давно было пора истребить гербицидом.
– Хорошо иногда постоять и посмотреть вокруг, – сказал он.
Эдвард гораздо больше похож на мужчину из железного века, чем я – на женщину того же времени. Он всегда живет в моменте, как, наверное, жили они.
Я все еще ничего не знаю о Вашей жене.
С наилучшими пожеланиями,
Тина
Силькеборг
2 мая
Дорогая Тина,
в то утро, когда у меня в руках оказалось Ваше письмо, я вышел из дома и посмотрел вокруг. Кур у меня нет, да и вообще я обычно не выхожу из дома по утрам, только когда наступает время идти на работу. Тогда я думаю лишь о том, не забыл ли чего и какие у меня сегодня планы в музее. Выйти из дома до завтрака просто для того, чтобы посмотреть, как там на улице, было для меня делом совершенно новым.
Между моим домом и дорогой растет живая изгородь. Сейчас она вся зеленая, а зимой словно бронзовеет. Я заметил, что ее пора бы уже подстричь. Но это мысль хозяина дома, а я хотел посмотреть на мир вокруг не как домовладелец, поэтому решил выйти на тротуар. И тут же понял, что даже там мало что увижу. У большинства моих соседей тоже живые изгороди. Несмотря на то, что я живу на холме над Силькеборгскими озерами, воду от моего дома не видно. Я отметил, что дорожное покрытие разбито и нуждается в ремонте, но вместо того, чтобы размышлять об этом, поднял взгляд наверх. Небо было великолепным. Я всегда любил смотреть на небо, но, увы, совсем не часто.
Я почти ничего не слышал. Ветер трепал флаг на соседском флагштоке. Издалека доносился гул шоссе, но вблизи моего дома было тихо. Пела птичка. По пению я не смог определить какая. Не думаю, что смог бы, даже если бы увидел. Детей слышно не было. В Дании теперь все дети ходят в государственные детские сады начиная примерно с года отроду, так что я практически никогда не слышу их голосов, разве что проходя мимо школы или сада в обеденный перерыв или в солнечную погоду, когда дети играют на улице. Из дома через открытую дверь доносилась музыка, которую я поставил перед тем, как выйти. Шостакович. Единственным запахом, который я мог уловить, был аромат моего собственного кофе, хотя я недавно заметил, что запахи как бы прячутся от меня и проявляются только тогда, когда я какое-то время их не ощущаю. Тогда они напоминают о себе.
Из соседних домов никто не выходил. Я живу в хорошем районе, знаком с соседями и по-доброму к ним отношусь, но, стоя в то утро на дороге и представляя, как Вы стоите у себя на ферме и рисуете в воображении поселение железного века, я вдруг подумал, какими разобщенными все мы стали. Какими самодостаточными. Разумеется, мы все принадлежим обществу, в котором живем, но вовсе не так, как современники Толлундского человека принадлежали своей общине. Они были шестеренками, колесиками, скобочками, рычажками, блоками. Каждый вносил свой вклад в жизнь и работу общины в зависимости от своих умений и социального положения. Мы же с Вами скорее подшипники. Все мы сами по себе, мы сохраняем целостность и соединяемся с другими подшипниками только для того, чтобы образовывать формы, отвечающие нашим целям.
Вернувшись в дом, я услышал звонок телефона. Это моя дочь звонила из Копенгагена. Кажется, я еще не рассказывал Вам о своих детях. И не могу этого сделать, не рассказав сначала о жене.
Она умерла не от рака груди. И я вовсе не бросил Ваше письмо после того, как Вы сообщили, что повстречавшиеся Вам женщины подружились на курсах реабилитации для тех, кто болен этой болезнью. Я дочитал письмо до конца. У Вас настоящий дар находить радость в мелочах, я и сам раньше им обладал, но потом утратил. Отчасти это произошло из-за истории моей жены, довольно печальной. Возможно, если я поделюсь ею с Вами прямо сейчас, мы сможем продолжить нашу переписку в более радостном ключе.
Мою жену звали Биргитт. Она родилась в городе, в Копенгагене, но когда ей было пять или шесть лет, случилось так, что мама больше не смогла о ней заботиться. Биргитт помнит, что осталась в полумраке, что хотела есть и пить, помнит ощущение холода и сырости. Позже она узнала, что, вернувшись из командировки, ее отец обнаружил, что мать ушла в парк и спала там на скамейке. Биргитт сидела одна в запертой квартире с плотно задернутыми шторами. Она сделала себе берлогу под столом, с которого почти до самого пола свисала скатерть. В доме не было никакой еды. Зато работало радио, транслировавшее классическую музыку. После этого она всю свою жизнь не могла без слез слушать классику, особенно великие симфонии.
Мать Биргитт направили в приют, где она практически сразу умерла, по крайней мере, так сказали Биргитт, а она поверила. Мама так и не вернулась в квартиру с тем столом и никогда больше не видела свою дочь. Девочку отправили к родителям отца на остров в северо-восточной части страны. Представьте себе этот контраст. Хотя бы просто разницу видов из окна. Всю жизнь Биргитт смотрела на другие здания и верхушки деревьев, между которыми проглядывали неровные фрагменты неба. Теперь она видела одно только небо и плоский ландшафт без единого дерева. Да и потом, бабушка с дедушкой. У матери не было никакого режима. Она спала, ела, уходила и приходила тогда, когда хотела. Когда мама не спала и не ела, она создавала вместе с Биргитт. Я знаю, что в английском «создавать» – это переходный глагол, ему обязательно требуется дополнение (да, да, у меня в школе был очень сильный учитель английского), но мне трудно подобрать подходящее существительное. Создавала игры? Поделки? Еду? Истории? Все это вместе, но в основном мама создавала жизнь, совсем не похожую на жизнь обычной женщины и шестилетней девочки в копенгагенской квартире.
Жизнь родителей отца (Биргитт называла их по имени, Эрнстом и Карлой) была сложена из мелочей, зафиксированных так же крепко и прочно, как кирпичи в стенах их дома. Каждое утро они просыпались в одно и то же время, проходили одни и те же этапы умывания и одевания, садились на одни и те же места за столом, чтобы позавтракать, и так далее до самого вечера. Предполагается, что детям нравится иметь режим. Он дарит им ощущение безопасности. Но режимом Биргитт в родительском доме было полное отсутствие режима, поэтому она постоянно ждала, что вот-вот что-нибудь случится.
– Когда уже будет по-другому? – спрашивала она бабушку.
– В каком смысле? – переспрашивала Карла.
– Просто по-другому.
– По сравнению с чем?
Ее бабушка была доброй и терпеливой женщиной.
– Ну, просто по-другому.
Они были неспособны понять, что Биргитт и сама не знает, какой перемены так ждет. В том-то и была вся соль. В неожиданности.
Единственным непредсказуемым элементом ее новой жизни было море, и оно очаровало девочку. Она была совсем малышкой, но смело преодолевала покрытый жесткой травой луг, который отделял дом бабушки и дедушки от моря. Ее мама обожала яркие вещи, так что вся одежда Биргитт была таких цветов, что их нетрудно было заметить на фоне серых, зеленых и коричневых оттенков пейзажа. Поэтому Карла разрешала ей уходить от дома дальше, чем может показаться привычным теперь, когда мы так много внимания уделяем безопасности детей. Биргитт рассказывала, что едва ли не самым успокаивающим в море, помимо постоянно изменяющихся форм и цветов, был шум, который оно производило. В Копенгагене шум был повсюду. На острове же не было ничего, кроме ветра, частого гостя тех мест, и прибоя, разбивающегося о берег.
В Дании дети идут в первый класс в семь лет, именно в этом возрасте Биргитт оказалась на острове. Для нее школа стала еще одной обителью дисциплины, еще одним потрясением. До этого она редко общалась с детьми, и ее озадачило то, насколько они все на нее похожи, но в то же время не имеют с ней ничего общего. Думаю, все дети ощущают свое отличие от других детей, но чаще всего у них имеется представление о собственной связи с семьей или сообществом людей. Они понимают, где их место. Биргитт нигде не было места.
Каждое утро Карла отводила ее в школу, которая располагалась в миле от дома, а днем возвращалась, чтобы встретить. В один из дней Биргитт не оказалось возле школы. Учитель сказал, что Биргитт вообще не присутствовала в тот день на уроках. Карла оставила ее у входной двери, но девочка так и не вошла внутрь. Погода стояла типично датская. Вы сразу поймете, что я имею в виду, потому что, мне кажется, у Вас такая погода называется типично английской: было прохладно, ветрено, и земля казалась маленькой на фоне бездонного голубого неба, где царил хаос из облаков. Вся деревня отправилась на поиски Биргитт. Люди спотыкались о травяные кочки в песчаных дюнах, терли глаза, пытались вытряхнуть песок из волос и звали, звали девочку. Сейчас половина домов на побережье пустует круглый год, за исключением летнего сезона, но в те времена в каждом доме жили люди, и все они прочесывали окрестности, заглядывали под куски брезента во дворе, обыскивали сараи. На воду спустили лодки, мужчины и женщины с румпелями в руках опасливо всматривались в прибой, обследовали каждую бухту, каждый уединенный сухой пляж. Настала ночь, а девочку так и не нашли.
В этой части Дании много небольших островков, они выглядят как скалы, торчащие из моря, не более того. Один из таких островков расщеплен надвое, как подставка под один-единственный тост. У основания скалы разлом расширяется, образуя пещеру. Или лучше назвать это гротом? Укромное место с песчаным полом. Биргитт нашли в этом гроте через три дня после того, как ее видели в последний раз. Она была там одна. Внутри была найдена еда и теплые одеяла. По внешнему виду Биргитт нельзя было сказать, что она как-то пострадала.
Она рассказывала всем историю о том, как ее позвал за собой житель морских глубин, и она последовала за ним. «Как вы добрались до острова? Вплавь?» – спрашивали взрослые. Нет, отвечала Биргитт, на лодке, он греб, а она указывала путь к скале. Полиция опросила всех до одного владельцев лодок, кто физически мог сидеть на веслах (то есть практически все мужское население острова, где Биргитт жила с бабушкой и дедушкой). Девочка не могла описать этого человека, говорила только, что это был морской житель, глубоководное существо. К тому же совершенно невозможно было установить связь между кем-то из мужчин и одеялами и едой, найденными в гроте. Поиски похитителя продолжились и в материковой части Дании. Под подозрение попали многие ни в чем не повинные мужчины и с острова, и с материка, кому-то из них до конца своих дней не удалось убедить людей в своей невиновности. Но никого так и не задержали.
Став взрослой, Биргитт признавала, что никаких морских людей не существует, что в лодке на остров ее увез простой смертный на двух ногах. Но глубоко в сердце она все равно верила в свою историю. Вслух она никогда этого не признавала, но я прожил с ней тридцать лет и любил ее, поэтому считаю себя вправе это утверждать. Моя жена не верила, что является частью этого мира, как другие люди. Она родилась на свет, чтобы жить в одиночестве, хорониться в укромных местах, и люди, которые создавали такие места, были из другой субстанции, не такими, как я, как все остальное человечество. Ее мама и житель морских глубин были для нее реальными, а я и наши дети – нет. Она играла с нами в дочки-матери, в счастливую семью, но мы были всего лишь игрушками. Реквизитом, который помогал ей притворяться обычным человеком. Когда игра становилась невыносимой, она оставляла нас. На несколько дней, на неделю, однажды больше чем на два месяца. Я никогда не знал, куда она пропадала, но понимал, что она ищет. Ей нужна была дверь в реальный мир, где жил ее глубоководный друг. И с годами это томление становилось все сильнее.
Пару лет назад мы плыли на пароме из Гетеборга в Фредериксхавн. Возвращались из небольшого отпуска, в котором праздновали очередную годовщину свадьбы. Погода была штормовая: порывистый ветер, дождь, сильная качка. Несмотря на все это (а может быть, именно благодаря этому?) жена сказала, что хочет выйти на палубу. Сказала, что ее укачивает, что ей неприятен шум и запах внутри парома. Я предложил составить компанию, но она отказалась, попросив присмотреть за сумками. Уходя, Биргитт протянула мне браслет. Она носила его не снимая, но несчастливая жизнь повлекла за собой чрезмерную худобу, браслет стал плохо держаться на запястье и часто спадал. Биргитт сказала:
– Подержи, пожалуйста. А то еще соскользнет, не хочу его потерять.
Больше я ее не видел. Тело так и не нашли. Она оставила меня, как будто всю жизнь спала, а теперь наконец решила проснуться, чтобы встретить новый день.
Я с удивлением понимаю, что никогда прежде не рассказывал эту историю от начала до конца, как рассказал ее Вам. Мне всегда непросто говорить о том, что наиболее глубоко затрагивает мои чувства. Но вот я рассказал, и мне стало легче. Теперь все окончательно случилось. История подошла к концу.
Ваш друг,
Андерс Ларсен
Бери-Сент-Эдмундс
12 мая
Дорогой Андерс,
хочу вернуться к письму, которое Вы написали в марте, прежде чем отреагировать на Ваше последнее послание. Так мне будет проще найти нужные слова.
В мартовском письме Вы размышляли о различиях между нашими жизнями: моей, протекающей на лоне природы среди постоянных изменений внешней среды, и Вашей, сосредоточенной вокруг застывших во времени предметов. Тогда Вы спрашивали, что лучше и что бы выбрала я, если б знала, что у меня есть выбор. Я знаю, это такой же риторический вопрос, как и те, что я задавала Вам в первом своем письме (как добраться до Силькеборга и как установить генетическую связь с человеком из железного века). Но я все же спрошу, потому что именно этот вопрос хотела задать Вам (или профессору Глобу) в самом начале переписки. Согласитесь, поразительно, что после того, как Вы безропотно внимали моим рассказам про забой свиней и смерть моей лучшей подруги, Вам удалось раскрыть реальные мотивы, побудившие меня написать самое первое письмо?
Вы спрашиваете, случается ли мне просыпаться посреди ночи, испытывая ужас. Ужас я испытываю редко, но после смерти Беллы обнаружила, что ни днем, ни ночью не могу перестать думать о том, во что превратилась моя жизнь. В некоторые моменты я ощущала громадные масштабы упущенных возможностей. Белла умерла в хосписе. Если в Дании нет хосписов, их непременно нужно организовать. Благодаря им уход из жизни легче вынести и самим больным, и тем, кого они оставляют на земле. Теперь я точно знаю, что Вы поймете, какой это дар, какое неоценимое благо. Алисия, дочь Беллы, в последние дни была рядом с ней. И я тоже. Алисия – человек бурных эмоций: кричит, если злится (а злится она довольно часто), смеется, поет и танцует, когда счастлива. И горе она проживает громко и очень физиологично. Я, конечно, люблю ее, она дочь моей подруги, но иногда ее поведение просто изматывает. В тот день, когда Беллы не стало, Алисия достойно вела себя в хосписе, но стоило нам спуститься на парковку, как у нее словно резьбу сорвало. Она носилась вокруг припаркованных машин, пинала ногой стены, продолжая при этом рыдать и стонать так громко, что ее наверняка слышали даже у супермаркета «Сейнсберис» в четверти мили от нас. К тому же мы были как на ладони для всех, кто смотрел в окна хосписа. Я терпеть не могу быть на виду, поэтому решила сесть в машину и подождать, пока эмоции Алисии поутихнут.
Согласитесь, бывают такие моменты, когда одна глубоко запрятанная мысль вдруг выходит на первый план, и ты понимаешь, что какое-то время думал об этом, пусть и не отдавая себе отчет, и тогда время и место, в котором ты это осознал, становится вдруг чем-то вроде блока памяти. Единым целым, к которому можно обращаться за воспоминаниями. Сидя в машине на парковке хосписа и наблюдая за тем, как Алисия носится туда-сюда, словно напуганный собакой фазан, я начала думать о том, что в конечном итоге вылилось в мое первое письмо Вам. Почему я живу именно такой жизнью, почему так мало сделала, практически ничего не достигла. Если моя жизнь так незначительна для меня, почему бы мне не попробовать стать значительной в глазах незаинтересованного наблюдателя? Какую жизнь я выбрала бы себе, если бы подошла к вопросу выбора рационально? Если бы не пошла на дискотеку для юных фермеров и не встретила Эдварда; если бы не была такой любопытной, не так сильно увлекалась животными, если бы более разумно относилась к своей половой жизни? Сомневаюсь, конечно, что мой выбор стал бы рациональнее, осознай я до конца, что мне предстоит его сделать. Очевидное различие между моей и Вашей жизнью в том, что Вы в основном проводите время в помещении, я же по большей части – на улице. Задумывались ли Вы об этом, когда были молоды? Нет, ровно как и я. Не знаю, что из этого я предпочла бы, если бы в юности поставила себя перед таким выбором. Если бы признала, что альтернативы существуют и что я имею право выбора. Я отдаю себе отчет в том, что, даже если бы моя жизнь повернулась иначе, это было бы исключительно результатом какого-нибудь неотвратимого сиюминутного импульса, такого же мощного и случайного, как тот, из-за которого я, едва достигнув двадцатилетнего возраста, стала женой Эдварда и мамой Тэма. Кто может точно сказать, что та, другая жизнь, какой бы она ни оказалась, не оставила бы у меня в душе такого же осадка, какой я ощущаю, сидя в машине на парковке хосписа? Чувства, что я всю свою жизнь провела в неправильном месте, там, где ничего не происходило?