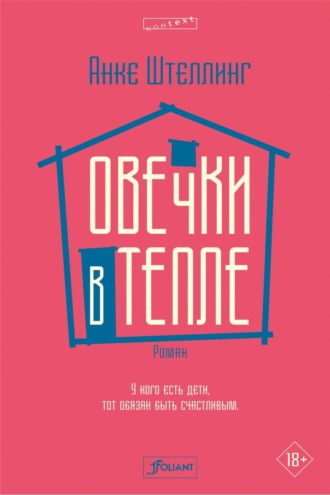
Полная версия
Овечки в тепле
Они поют это хором в детском саду, когда за кем-нибудь пришли.
«Забирают, виновата, вот тебе расплата!» – потому что ребёнок, которого забирают, выходит из игры.
Кто-то же должен быть в этом виноват.
В отличие от детсадовских детей, я пока держу себя в руках. Стискиваю зубы, чтобы не отвечать на их дружное пение.
Дети, как я думала, поют всё, что в голову взбредёт, когда день тянется долго, а день тянется долго, семь часов, столько можно выдержать, только объединившись в «мы», они и поют от души, всё подряд, даже всякую чепуху.
Что такое, например, «чибутня»?
«Чибутня, чибутня, догони меня!» тоже годами оставалось без комментариев, но теперь скидка на детство уже не действует, та фора на ограниченность и безгласное самоуспокоение, призванное расслабить мой мозг при помощи постоянно нарастающей частоты вибрации, слышишь, Беа, это уже не работает, это уже не массаж, это пытка.
Отныне я отказываюсь от формул успокоения, больше никаких «Да я понимаю» или «Как-нибудь уладится», или «Не так уж и плохо», «Всё обойдётся».
Теперь формула гласит: «Ничего не будет хорошо», «Довольно, чёрт возьми» и «Всё к свиньям».
Я буду называть вещи своими именами и больше ничего не сдерживать.
В то короткое время, что мне ещё осталось, пока не начал звонить домовладелец и толпами водить по квартире новых потенциальных арендаторов, я непрерывно буду говорить правду, и я уже сейчас замечаю, насколько благотворно это на меня действует. Мне плевать на неправильное отображение времени на экране ноутбука, сейчас закурю ещё одну сигарету, и…
Уже звонят из школы и говорят, что у Джека болит голова.
– Да, хм, – отвечаю я.
– Да, вот именно, – говорит секретарша, – он даже плачет.
– Да, хорошо, – говорю я, – он простудился.
– Вам надо прийти и забрать его, я не могу отпустить мальчика одного.
Если Джек плачет, я бессильна. Если секретарша вызывает меня, я не могу отказаться; мои воспоминания о том, что я сама, когда болела голова или что-то другое, всегда шла домой одна, вооружившись печатным бланком, который мы называли «вольной грамотой», – эти воспоминания могут меня обмануть: разве можно сравнивать тогда и сейчас?
Нет никакой правды без удостоверения, нет никаких свидетелей, которые могли бы вспомнить себя так же, как я, и даже если они есть: сегодня действуют другие правила. Я больше не ребёнок, а мать и должна, чёрт побери, радоваться, что не случилось ничего похуже.
Как только мы с Джеком покидаем секретариат, мой сын начинает по-настоящему плакать и показывает мне свою сломанную скобку-пластинку для зубов.
Если Джек плачет, я бессильна. Если он плачет, оттого что боится меня и моей реакции, мне остаётся только одна возможная реакция: успокоить, уговорить, преуменьшить.
Может, эта пластинка когда-то и стоила нам денег. Может, я и воздвигала грозное здание из предупреждений, вздохов и сокрушений при изучении счёта за её изготовление, из своего плохого настроения в приёмной ортодонта – но это здание моментально рушится, как только я вижу его поплывшие глаза и дрожащую нижнюю губу. Я беру назад все свои слова, я сделаю всё, всё оплачу, только бы он – пожалуйста, пожалуйста – перестал плакать.
И он перестаёт.
Джек ложится в постель – заспать этот шок и головную боль; я звоню стоматологу и записываюсь на приём.
Разумеется, я могу оплатить эти брекеты. Я смогу высидеть долгие часы в ужасной комнате ожидания, читая журналы про мотоспорт или разглядывая рыбок в заросшем водорослями аквариуме или подручных ортодонта, пробегающих на своём резиновом ходу в комнату отдыха, чтобы наскоро перекусить там или поделиться новостью.
В это время моё плохое настроение упрочняет вокруг меня новый фундамент для грозного здания, но такова уж наша участь – моя и Джека, – которая нас связывает. Родительская забота – детская зависимость.
А чего же я, извините, ожидала?
– Известно же, что дети иногда и болеют.
– Что брекеты ломаются.
– Что комната ожидания не самое приятное место.
Да, верно. И вообще: мой Джек! Такой одиннадцатилетний подросток с проволочкой на резцах и размазанными по щекам слезами – просто само очарование материнской проекции. Иметь такое живьём – разве не круто?
А то, что я хотела, собственно, написать сегодня, оставлю на вечер; мне уже пора выходить, забрать Линн из садика. День короток, если его прерывают школьная секретарша и стоматолог-ортодонт, если он разрезан ограниченным пребыванием ребёнка в садике – «сама виновата, вот и расплата».
Меня никто не принуждал рожать детей.
А вот принуждал.
Но мне об этом некогда распространяться, надо бежать прочь из моего чуланчика, я уже на тротуаре.
Встречные тащатся с детьми, которых они уже забрали из садика, и с колясками, в которых лежит по новенькому младенцу, останавливаются у булочной, перед дверью которой скопилась уже гроздь этих колясок.
И я думаю: слава богу, что я не отлынивала от деторождения. Иначе кто мне купит булочку, когда я состарюсь? Возьмёт меня за руку, когда мне придётся обходить такую группу людей на тротуаре? Совсем одной мне пришлось бы со своими ходунками на колёсах сворачивать в водосточную канавку – либо ждать, когда кто-нибудь сам заметит, что мне надо проехать.
Дети – моя страховка на старость; сперва я их веду, потом они меня.
Дети – это моя банда; я её создатель и предводитель, со временем я стану её почётным членом, а они возьмут руководство на себя.
В детском саду меня подстерегает чувство, что эта перемена уже наступила. Как робкая помощница по хозяйству, которая приехала в страну изучать язык и нанялась в семью, я молча стою в сторонке и жду, когда Линн меня заметит, даст знать воспитательнице, что за ней пришли, и поведёт меня в раздевалку.
Десять лет назад, когда я ещё забирала здесь Беа, было иначе. Я маршировала в садик в полноте своих материнских сил, оживлённо жестикулировала, возбуждённо болтала с другими матерями, а потом с ними же вместе шла догуливать на детскую площадку: тесно связанная с ними в прилежании, отваге и ответственности за будущее поколение. Когда же это всё переменилось?
– Где начинаются деньги, там кончается дружба, – забрасываю я пробный камень уже за дверью, когда Линн снимает замок со своего детского велосипеда. Линн не реагирует, её не затрагивает сама по себе эта мудрость, не привязанная к истории.
Линн садится на велосипед и катит впереди меня. Её шарф свисает так низко, что того и гляди попадёт в спицы колеса и его туда затянет; здесь предостережения опять же бессильны, пока не грянула беда – или пока ей не расскажут историю гибели Айседоры Дункан. Я бегу за Линн, догоняю её, на ходу оборачиваю ей шарф вокруг шеи.
Она тормозит у группы людей перед булочной.
– Ну хорошо, – соглашаюсь я.
Притом что детский врач на последнем медосмотре уже предостерегала меня: никаких промежуточных перекусов! Иначе Линн не впишется в график веса.
К счастью, в нашем доме нет лифта. Полкусочка своей булочки Линн уж точно потратит на подъём по лестнице.
Список для меня самой – в ближайшее время отработать:
Определение «свободной воли».
Психология разочарования.
Парадоксально или, наоборот, закономерно, что те, кто пришёл к пониманию слишком поздно, особенно отличились в просвещении других?
Из каких данных берётся тот график веса в жёлтой книжечке обследований ребёнка, который считается «нормальным»?
И: перестать наконец говорить «наш дом».
Мне очень жаль, что здесь всё кажется таким клочковатым и рваным. Мне бы хотелось в этой книге больше логичности, видимого единства, утешения для всех, кто в поиске. Но такова уж я, и больше я не буду делать вид, будто у меня те же условия, как, скажем, у Мартина Вальзера.
Я могу обозначить «письменным столом» ту доску, которую сама при помощи распорных дюбелей закрепила между двумя хлипкими стенками моей кладовки, могу и впредь говорить о «моей» кладовке, тем самым присваивая её; я главная героиня истории, кроме того, ещё и рассказчица, да к тому же писательница по профессии!
Но прежде чем приписать себе потерю моей квартиры и существование моих детей, я должна ещё приготовить ужин, помыть их ланч-боксы для бутербродов, проверить их школьные ранцы, остричь им ногти, наорать на них, добиться выполнения нескольких договорённостей и сделать несколько обращений, немного почитать вслух, потом проследить за чисткой зубов, а лучше всего дочистить их как следует, а потом завинтить тюбик, повесить полотенца и снова наорать. Потом извиниться за то, что наорала, поднять из углов брошенную одежду и аккуратно её сложить, поправить одеяла, сбившиеся комом в пододеяльниках, принести им воды попить, найти требуемые мягкие игрушки и поцеловать на ночь. Не бойтесь, я не жалуюсь, сама виновата. Зачем я родила всех этих детей? Только когда они уже спят, придёт ответ на этот вопрос; только когда пишу, я снова могу утверждать, кто я есть.
Именно поэтому перед вами нечто противоположное правильно выстроенному, элегантно скомпонованному роману.
«Хорошо сложена и элегантна».
Хорошо сложена по меркам 90–60–90, ради которых Деми Мур удалила себе два нижних ребра; элегантна в шёлковых чулках и платье-футляре, в которое не только надо влезть, но и обзавестись им ещё надо, а потом ещё и уметь его носить.
Меня зовут Рези, мой муж – Свен, а наших детей зовут Беа, Джек, Киран и Линн, и им сейчас четырнадцать, одиннадцать, восемь и пять лет. Родить их было безумием; это было наше решение, значит, мы сами и виноваты.
Беа мы родили, потому что думали: иметь детей – это хорошо. Джека родили, чтобы Беа не росла единственным ребёнком в семье. Кирана – чтобы не казаться заурядной семьёй. А Линн? Можно было бы сказать, от наглой заносчивости. Или от затворничества?
Двое нищих художников с четырьмя детьми. Не знаю, как нам это удаётся, но недавно я заметила, что «Как вам это удаётся?» вовсе не было вопросом – а также не было комплиментом, как я долгое время считала. А было иносказанием того, что спрашивающий полагает это невозможным – и даже глупым вообще пытаться сделать это.
«Не хотел бы я оказаться на твоём месте» – вот было истинное значение вопроса «Как тебе это удаётся?», но сознание того, что все эти приятельские со-матери и не-матери, редакторы и издатели, коллеги и друзья, задававшие этот вопрос в прошлом, на самом деле были безумно рады, что не оказались на моём месте, не меняет дела.
Можно уговорить себя, что с таким множеством детей интересно, живо и ярко – они же все по-настоящему крутые ребята, и ирония, сквозящая в этом вопросе, ошибочна, потому что они крутые ребята.
Дети не могут быть ошибкой, как бы ни раскаивалась сама мать, и тут не может быть никакого «прямо уж и сказать нельзя», потому что да, это нельзя говорить. Нельзя, если хочешь сохранить своё достоинство.
Лучше всего придерживаться тех правил высказывания, которые приняты в отношении беженцев, и тогда самое большее, что можно сказать, это: «Логистически это уже перебор», что является полной чепухой, поскольку деньги от государства, а государство богатое, и не так уж их и много. То, что я сама говорю об «этом выводке» или об «этой ораве дома», служит лишь тому, чтобы изобразить себя в виде бесстрашной дрессировщицы, которая, вот именно, как-то «справляется».
Не надо нам было делать это. Сохранили бы деньги для себя, посвятили бы время чему-то другому. Могли бы воспрепятствовать этому – вызывающему для нашего поколения – проекту применением презервативов! Но я-то как раз думала, что это хорошо. Начиталась ярких журналов, насмотрелась Лассе Халльстрёма. Анджелина Джоли в кругу своих родных, «Мы все из Бюллербю», день рождения Арни Грейпа.
Но как-то у нас идёт изображение без звука; кадр не попадает в рамку.
А диалоги?
Ребёнок: «Что есть поесть?»
Мать: «Что это за тон?»
Ребёнок: «А что такого, я же только спросил, что у нас есть поесть».
Мать: «Ты орёшь на меня, а не спрашиваешь. Может, скажешь сперва добрый день?»
Ребёнок: «Добрый день. Что есть поесть?»
Мы оба попадаем в одну ловушку, в западню под названием «Мы приносим друг другу счастье». И беда, если не приносим.
Мать: «Кончай игру и наведи порядок в комнате».
Ребёнок: «Ещё только один уровень!»
Мать: «Кончай, я считаю до трёх».
Ребёнок: «О, чёрт, ну ты же понятия не имеешь…»
Мать: «Раз, два…»
Ребёнок: «Нет!»
Мать: «Да». Вырывает у ребёнка планшет. «Ты никогда не остановишься добровольно, у тебя уже зависимость».
Ребёнок (вяло): «Ты даже не досчитала до трёх».
Мать: «Что?.. Приберись. Превратил комнату в свинарник. Ты понимаешь, что здесь скоро заведутся паразиты?»
Ребёнок пинает какой-то мусор на полу.
Мать: «Давай-давай. Шевелись».
Слёзы ребёнка капают на мусор.
Мать: «Ну в чём дело?»
Ребёнок не отвечает. Вероятно, в своих мирах он умер или потерял горы бриллиантов и лишился всех прежних достижений. Мать этого не знает. Мать понятия не имеет о мирах ребёнка, о жизни ребёнка и его достижениях.
Мать: «Мне придётся приучить тебя наводить здесь порядок. А если будешь сидеть за планшетом, ты отупеешь и станешь толстым, сухожилия у тебя сократятся, и в реальном мире у тебя не будет почвы под ногами, а здесь вокруг заведутся черви. Ты думаешь, мне это будет приятно?»
Ребёнок (вяло): «Да».
Мать: «Ага! Я тут целый день прибираю за вами и порчу вам всё удовольствие, как будто мне это приятно!»
Ребёнок: «Нет».
Мать: «Мне тоже нет. Нисколько не приятно постоянно говорить одно и то же! Прекращай, убери, накрой на стол, почисти зубы! Может, ты когда-нибудь начнёшь всё делать сам? Вот чего ты ревёшь?»
Ребёнок: «Потому что ты кричишь на меня!»
Мать: «Но почему я кричу на тебя?»
Ребёнок: «А почему я должен среди дня чистить зубы?»
Почему-то эта сцена не вписывается в череду картинок, которые открываются у меня в голове на ключевое слово «семья», но я и не могу утверждать, что ничего не знала об этом, в конце концов я сама росла в семье, и это тоже определённо было не так, как у Бритты и Инги из Бюллербю.
Я была ребёнком, а не матерью.
В этом и состоит весь секрет?
В четверых детях хорошо то, что, как правило, хотя бы один из них кажется с виду счастливым и довольным. При этом опять же возникает вопрос, настоящее ли это довольство или вынужденное, ради поддержания системы. И довольный ребёнок в реальности страдает больше всех, неосознанно, под грузом обязанности сглаживать все неровности. И выносит из этого ужасные долгодействующие травмы.
Держать под контролем баланс чувств шестерых человек одновременно невозможно. И тем не менее это моё страстное желание.
Но хотя бы Свен понимает меня. Настолько хорошо, что может объяснить мне, почему это не срабатывает.
Мать ребёнку: «Ты ещё должен написать сочинение в форме письма подруге, как прошёл твой год, завтра уже сдавать».
Ребёнок: «Не буду, не хочу».
Мать: «Это не вопрос желания, это школьное задание».
Ребёнок: «И что? Дурацкое задание».
Мать: «Если ты его не выполнишь, у тебя будут неприятности. Поверь мне, я в этом разбираюсь. Лучше быстро сделать и так же быстро забыть. Просто сделай вид, что тебе это нипочём».
Ребёнок (после короткой паузы): «Я с тобой больше не разговариваю».
Мать: «А при чём здесь я? Не я же придумала это задание! Допустим, я напоминаю тебе, что ты должен это сделать. Но только потому, что я уже знаю по опыту, чем это может кончиться. У тебя есть другая возможность: ты пишешь, что находишь это задание дурацким».
Ребёнок: «Я так и должен написать: дурацкое ваше задание?»
Мать: «Ну, по крайней мере это будет честно. Ты пишешь настоящее письмо одного человека другому. От Кирана – подруге Керстин!»
Киран: «Я больше с тобой не разговариваю».
Я: «Почему? Я же пытаюсь тебе помочь!»
Киран поджимает губы. На глаза навёртываются слёзы, но ему удаётся удержать их на веках и не выпустить на щёки. Губы побелели.
Я: «Ну что такое? Что я тебе такого сделала? Свен, ну что ты на это скажешь?»
Свен: «Нет уж, фигушки, чтоб я в это вмешивался».
Я: «Ну прекрасно. Оставляешь меня один на один с этим».
Свен вздыхает: «Уж извините».
Я: «За что извините?»
Свен: «За то, что у вас такая проблема».
Я: «У меня нет никакой проблемы!»
Свен: «Ах нет?»
Я: «Разве что Киран больше со мной не разговаривает! Я всегда крайняя, все могут на мне потоптаться!»
Свен: «А ты не встревай!»
Я: «И что будет? Кто позаботится о том, чтобы у Ки-рана не было неприятностей?»
Свен: «Кажется, они у него уже есть».
Я: «А будет ещё хуже!»
Свен помалкивает.
Я: «Ну говори же!»
Свен: «Нет! Не стану. Не втягивайте меня в это! Достаточно того, что ты в это впуталась!»
Я: «Можно подумать, что это слабость! Но на мне, чёрт возьми, вся эта лавочка только и держится!»
Свен: «Ты держишь свою лавочку, Киран свою. Я свою, Джек свою, Беа свою, Линн свою».
Я: «А я общую!»
Свен отрицательно качает головой.
Меня провели. Подставили. Не знаю, кто. Никого не виню.
Единственное, что знаю: я не могла этого знать заранее. Меня никто не предупредил: каково оно на самом деле с детьми. Как это унизительно – не быть для них образцом. Меня не предостерегли – от безумия семейной жизни, от тюрьмы брака, от бедствия родительства.
Я хочу, чтоб у детей всё было хорошо. Я слишком многого хочу?
Да.
Я готовлю ужин. Утешаюсь, представляя себе, как потом, когда все уже улягутся, я уйду к себе в каморку и напишу об этом. Зафиксирую, каково это – нарезать на ломти целую ковригу хлеба, как немеет рука, а в голове вертится вопрос, почему я не купила уже нарезанный хлеб, у нас не зачерствел бы, здесь всё подъедается до крошки. Видимо, я избегаю признать очевидное: что у меня действительно четверо детей, которых надо прокормить. Причём хорошо прокормить! Так почему же у нас опять ничего, кроме хлеба, уснащённого сверху жирными кислотами? Известно же, что это вредно, арахисовое масло состоит на девяносто процентов из пальмового масла, для этих плантаций специально вырубают тропические леса, которые должны были бы производить воздух для дыхания. Я что, хочу, чтоб мои дети задохнулись? Даже если они любят арахисовое масло, я не должна им его давать, равно как и ливерную колбасу, сделанную из мясных субпродуктов, отходов промышленного животноводства, отравленную антибиотиками, да ещё и напичканную консервантами, что же я делаю?
Я делаю бутерброды. Убаюкиваю себя надеждой через час-другой снова забиться в мою каморку. Превратиться в Рези, которая умеет находить слова для этого безумия, тем самым упорядочивая его или, вернее, заворачивая во что-то, чтобы удобнее было ухватиться – взять его и взорвать. В ту Рези, чья рубашка мне ближе всего к телу.
Неизвестно
Понятия не имею, как это было при моём рождении. Само собой разумеется! – Мать и отец женаты, я второй ребёнок, то есть наверняка желанный. Современная больница, современный уход за грудничками; преступность навязывания порошковых молочных смесей вскрылась много позже. И когда Марианна мне об этом в конце концов рассказала, посыл её истории состоял не в том, что она как мать оказалась жертвой обмана компании «Нестле», снедаемой жаждой наживы, а в том, что мне в младенчестве ничуть не повредило отсутствие грудного вскармливания. Целью её рассказа было создание уверенности, программа называлась «Укрепить ребёнка». То есть в центре её историй как правило стояла я, и выглядело моё рождение не иначе как: захотели, зачали, родили, вырастили здоровой.
Рената невольно качает головой. В её глазах это выглядит неблагодарностью: да что ж такое! Ты что, хотела бы себе более трагичной судьбы?
Нет.
Ну, в случае с моим рождением моя позиция – не самое главное. А что было при этом с другими? Опасения и желания, надежды и заботы моих родителей, моей сестры, родственников, друзей и сограждан? Об этом помалкивали. Мне про них не рассказывали. До тех пор, пока у меня не появились собственные дети, я и не догадывалась, насколько бессильной и в то же время насколько одержимой делает тебя материнство. А что, если бы я родилась не такой здоровой?
Я спросила об этом Раймунда, моего отца. Он посмотрел на меня так, будто я хотела подстроить ему ловушку, и потом сказал:
– Ну, мы бы сделали всё, что в наших силах.
– А что было в ваших силах?
– Не знаю. К счастью, мне не пришлось это выяснять.
– А Марианне перед родами не снились кошмары? Что она рожает монстра, ребёнка без головы?
– Не знаю. А даже если бы и снились: что, по-твоему, это могло бы означать?
– Я просто хотела знать, что вы чувствовали!
– Мы просто радовались вам, детям.
У моих родителей было мало денег. Она продавщица книжного магазина, он чертёжник. Профессии чистые, зарплаты маленькие. Профессии уважаемые, потому что связаны с интеллектуальностью и творчеством, а не с барышами и услугами – как могло быть в случае, если бы книжный магазин, в котором работала Марианна, принадлежал бы ей. Или бы она получила образование – изучала бы, например, германистику? Или если бы Раймунд происходил из династии архитекторов и просто был бы более практичным человеком. Знания-то и ориентиры у него были!
Мои брат и сестра тоже были здоровы. Никто не нуждался в специальной поддержке, никому не требовались протезы или ещё что-то, связанное с дополнительными расходами. У нас хватало честолюбивой воли к продвижению, ловкой маскировки; мы уж точно не принадлежали к бедным.
Бедными были люди, которые не знали, кто такой Ле Корбюзье. Те, для кого он построил эти соты для жилья…
Мы жили в многоквартирном доме шестидесятых годов в Штутгарте. Над нами размещалась пожилая супружеская пара, под нами – одинокая учительница, ортопедический врачебный кабинет и налоговая контора. А мне так хотелось, чтобы в доме жили и другие дети, кроме нас; почему их не было, я не знала, и мне не приходило в голову спросить об этом.
На пресловутом кухонном полу лежал уже упомянутый богоданный линолеум, а в жилых комнатах – ковролин. Который мои родители в какой-то момент содрали, потому что под ним скрывался деревянный паркет. Его планки кое-где отходили, а полоски клея, которыми ковролин был закреплён по периметру, намертво срослись с уплотнением на стыках паркета, так что там залипли шерстинки.
Арендодателя мои отец и мать не стали этим утруждать.
Стены были оклеены обоями под покраску, и эту покраску обновляли раз в несколько лет; это родители тоже проделывали сами. Марианна любила ремонтные работы. Раймунд нет, но не отлынивал от участия в них.
И я научилась всему, что было необходимо: оклеивать, замешивать, наносить, размывать. Оконные рамы, краска, старая одежда сестры и брата. Всего этого всегда хватало.
* * *«Сделай сам» теперь снова вошло в моду. Только не у меня, Беа, слышишь? Для меня это мрак. Может, ты всё способен сделать сам, но есть разница, почему ты за это берёшься: одно дело – от самонадеянности, и совсем другое – от голода; от скуки или из-за пустого кармана.
К деланию детей это тоже относится. И к их рождению. И к кормлению грудью.
Есть органы в «даркнете» и женское молоко в Интернете, есть служба чистки спаржи в компании «Реве», а вопрос Фридерике, не постригу ли я её детей Зиласа и Зофи… – это же просто круто, что я всё это могу.
Я довольно долго даже задавалась из-за этого. Свысока смотрела на людей, не способных ни комнату покрасить, ни еду приготовить или починить сливной бачок унитаза; на людей, которые никак не перестанут просить у родителей денег – даже на покупку детской коляски, притом что на «иБэй» можно купить дёшево, пусть и ужасной расцветки, но её можно заново обтянуть, будет уникально. Куда круче, чем модель за восемьсот евро! Выложить восемьсот евро за коляску, какое убожество. Нуждаться в родителях, когда уже сами родители.
Я настолько наловчилась в восполнении моего хлипкого бюджета за счёт собственных умелых рук, что не обращала внимания не только на причины и границы этой самодеятельности, но и на вопрос, кому от этого польза. Вот теперь и посмотрим, как мне удастся смастерить нам новую квартиру: взять коробки из-под яиц, скрепить их шампурами для шашлыка. Подумать только, как далеко я могла бы в этом зайти: может, не только постричь, я бы и грудью выкормила Зиласа и Зофи, если бы Фридерике меня об этом попросила? Может быть, даже и выносила бы их для неё?
– Известно же, – сказала Фридерике, когда мы сидели на солнце перед кафе.
Это было осенью три года назад, когда между нами всё было уже не так радостно, но мы ещё регулярно встречались. Больше не у них дома, а лучше где-нибудь в городе, в общественном месте. И вот мы сидели и болтали, и я жаловалась, что мне тяжело оплатить в одном месяце две групповые поездки от детского сада и две от класса, а Фридерике сказала:


