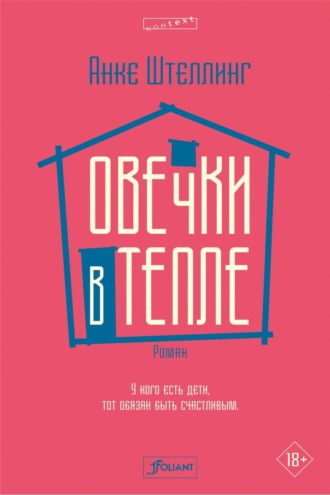
Полная версия
Овечки в тепле
Это чистое тщеславие с моей стороны, что я хочу сохранить за собой это слово в литературе. Этак каждый захочет и сможет; вообще, текстов уже достаточно, книг избыточно много, миллионы историй, зачем ещё и моя? Но, пускаясь в такие мысли, я могу также спросить: а зачем я сама? И без меня уже достаточно женщин, мир перенаселён и гибнет из-за этого.
– Никто не заставляет тебя писать, – сказала Фридерике. – И не делай вид, что это не твоё личное, себялюбивое решение.
Она взяла себя в руки, и ей самой не понравилось то, что она сказала. Никто не хочет быть бурчилой.
– Не делай вид, – сказал мне и Ульф, в той же пивной, где я сиживала с Ренатой, с Фридерике, с Эллен, опять с Ренатой и Ульфом; я встречалась с ними, с одним за другим, и должна была объяснять, почему я это сделала. Ульф хотел, как он сказал, быть в первую очередь парламентёром: как наименее задетый.
– Задетый чем?
– Сама прекрасно знаешь.
Я молчала.
– Представь себе, написали бы о тебе.
– Да.
– И как бы тебе это понравилось?
– А это и не обязано мне нравиться.
– Ты вторглась в интимные сферы и нарушила их!
– Я сожалею об этом.
– А мне так не кажется. Ты выглядишь так, будто в любой момент можешь снова сделать то же самое.
– Да, это верно. Потому что считаю это необходимым.
– Необходимо задевать других?
– Боюсь, что да.
– И после этого ты удивляешься, что они больше не разговаривают с тобой?
– Да. Меня удивляет: они не видят, что послужило поводом. Не понимают, что они просто пример, а речь идёт о большем.
– О тебе.
– Да, разумеется обо мне! Я страдаю от того, что приговорена к молчанию!
– Вот этого я и боялся.
– Чего?
– Что ты будешь изображать из себя жертву.
Ульф, мой старый друг. Задетый не так сильно, но всё же зашедший в тупик. Не помогла и латынь, как у нас говорят.
Кстати, о латыни.
Ульф сдал большой экзамен по латыни. Он сделал это играючи ещё в школе. Причём, кажется, класса «Б», если не «А»! Мои родители думали, что классы бывают только у «Мерседесов».
Ульф верит в добро и должен призвать меня к тому, чтобы я проявила понимание и выказала признание, иначе мир не водворится никогда.
Мир водворится, когда все сойдутся на рассказе, утвердят текст и распишут роли. Но до тех пор, пока все спорят о роли жертвы, этого не будет. Пока что я определяю, кто есть кто.
Итак, Фридерике. Бурчила. Принцесса, к настроению которой надо приспосабливаться, она не может иначе – её задача быть бурчилой, эта роль всегда требует двоих участников. Один всё отвергает, другой – всегда предлагает на замену что-то новое и усердствует. Бурчать и усердствовать – это близнецы-братья, они всегда рядом и не могут друг без друга.
И потом Ульф, мой парламентёр, с которым я училась вместе ещё в начальной школе и который позднее стал моим первым настоящим парнем. Тогда. В гимназии.
Где мы познакомились и с Фридерике, которая теперь говорит, что надо бы сперва подумать, можешь ли ты позволить себе детей.
– Известно же, – сказала она, когда я ей пожаловалась, как дорого обходятся поездки всем классом или всей группой детсада.
У Фридерике двое детей, Зилас и Зофи, от Ингмара, врача, с которым она познакомилась на свадьбе Кристиана, который тоже учился в гимназии со мной, Ульфом и Фридерике.
Вера – нет, она после четвёртого класса перешла в частную школу.
Вера ходила со мной и Ульфом в начальную школу, а потом с Фридерике и Кристианом в теннисный клуб.
У Веры с Франком тоже двое детей, Вилли и Леон.
У Ульфа детей нет, у него есть Каролина и архитектурное бюро.
У Кристиана и Эллен трое детей: Шарлотта, Матильда и Финн.
А теперь вопрос, кому какой толк от перечислений такого рода.
Я готова поспорить, что единственный человек, у кого в памяти это задержится дольше, чем на две секунды, это Фридерике, потому что её можно охарактеризовать таким красивым швабским диалектизмом и одним её излюбленным выражением. Прямо как в справочнике: «Фридерике, бурчила, Известно же».
В том ежегодном справочнике, который пришёлся на момент нашей абитуры в начале девяностых, та группа людей, которые смотрели слишком много высококлассных американских фильмов – вроде нас, Ульфа, Фридерике, Кристиана и меня, – шла под общим обозначением «И´нтели».
Мне пришлось объяснять моей матери, что это сокращённое «интеллектуалы», но при этом не обязательно означает что-то одобрительное. Но эй! – это могло быть и хуже. Был ещё подраздел «Рукодельницы» для девочек, у которых всегда при себе вязанье, или подраздел «Без понятия» для всех тех, про которых составителям ничего не пришло в голову.
«Бурчилу» можно, например, истолковать как «претенциозная»; и, разумеется, в наши девятнадцать мы были претенциозные, заносчивые интели в глазах наших неосложнённых, любящих гульнуть одноклассников, и потом мы все отправились в Берлин, куда и полагается ехать тем, кто о себе высокого мнения.
Вот оно как в общих чертах.
И это правда.
Кстати, о правде.
Это боевое понятие, Беа. С его помощью я делаю мою историю убедительной самым топорным образом; куда изящнее было бы исходить из того, что она сама по себе покажется правдоподобной. Фридерике ведь живьём у тебя перед глазами! И тебе сразу всё становится понятно насчёт задавак, которые поехали в Берлин.
По правде, это всё, разумеется, только слова. Но истинные слова, конечно, зачем же мне распространять вздор?
Одна из тех историй, которые рассказываются снова и снова, чуть ли не до тошноты («до газенвагена», как сказали бы наши антиинтеллектуальные одноклассники, не понимая, в чём там суть), состоит в том, что правда рано или поздно обязательно выйдет на свет. Её не скроешь, не вытеснишь, не заметёшь под ковёр, она отомстит за себя, вот я даже и не пытаюсь.
Поскольку я учусь на историях.
Это лучше, чем учиться на лозунгах якобы общественного согласия, которое называет себя – с топорной убедительностью – «здравомыслием».
– Эй, известно же, что со временем люди становятся чужими, особенно после сорока лет и при наличии детей.
Да, всё так. В моём случае это значит, что начиная с января мы окажемся на улице или будем платить за аренду квартиры втрое больше.
– Эй, известно же, что дети стоят денег, они растут, им требуется место; надо было заранее подумать, можешь ли ты себе это позволить.
Да, верно. Я позволила себе слишком много и теперь вижу, куда это привело.
– Уж точно не внутрь кольца Эс-бана.
Ни в каком законе не прописано право жить в центральной части города. Это сказал член берлинского сената по делам строительства, и через несколько лет, а может, и месяцев это станет частью здравого смысла, а кто думает иначе, у того позднее зажигание.
Я не стану жаловаться. Жаль только униженных людей и тех несчастных, что непременно рвутся внести свой вклад в общественную пользу. Кто жалуется, кто сам себе ближний, тот отнимает сострадание, предназначенное другим.
Я никогда не пожелаю себе того, чего не могу получить. Я не хочу быть жертвой, я сильная. Могу держать свои чувства под контролем, при случае могу и соврать – как та лиса: мол, зелен виноград! До которого не дотянуться.
Вот тебе ещё одна история, Беа.
Мы просто окружены историями.
Известно же – это тоже история, хотя и короткая, признаться.
Пока Фридерике её рассказывает, я расскажу свою, в которой главное действующее лицо – такое вот «Известно же», понимаемое как «Заткнись, морда, и получи положенное».
Я знаю, ты не любишь, когда я становлюсь агрессивной. Ты моя воспитательница, мой нежный ангел, ты моё лучшее Я.
Нет. Ты просто моя дочь. И я тебя боюсь. Или за тебя? Видимо, это одно и то же.
Я хочу, чтобы у тебя всё было хорошо, по крайней мере, не хочу быть виноватой, если твоя жизнь или жизнь твоих сестёр-братьев не удастся. Но чем измеряется удача жизни? Что вам нужно, что я вам должна дать, от чего вас уберечь, что же мне делать-то?
«Как ни сделай, всё не так», – гласит непреложный родительский закон. Он служит для облегчения, снятия вины, но действует всегда лишь кратковременно, потому что на продолжительный срок хочется всё сделать как надо.
Есть возможность просто делать всё иначе, чем твои собственные родители. Даже если тебе их не в чем упрекнуть: что-то есть всегда, и как ни сделай, всё будет неправильно, так что и они в любом случае что-то делали неправильно. Что опять же можно теперь сделать по-другому и – совершенно верно: опять неправильно.
Скажи мне, как от всего этого не потерять рассудок.
Кстати, о потере рассудка.
Ингмар считает, что я сумасшедшая. И когда он так говорит, становится не по себе, ведь он врач и обладает властью отправлять людей в психушку.
Я и сама люблю объявлять сумасшедшими людей, которые действуют мне на нервы. Ингмара, например, но у меня это совсем другое, всего лишь выражение того, что я не разделяю его взгляды и мне не нравится, как он их высказывает, а главное – не нравится то, что из этого вытекает в итоге: моё направление в психушку.
Ульф говорит после этого, что я не должна изображать жертву. Дескать, сама же первая начала, и теперь принимай как есть.
– Но это нехорошо, – говорю я.
И тут снова всё начинается с начала.
– Не тебе это решать, Рези.
– А кому?
– Каждый решает за себя.
– Да, вот именно. Я и считаю, что это нехорошо.
– Мы знаем. Об этом ты позаботилась.
– Кто это – «мы»?
– Ты могла бы быть вместе со всеми.
– Но я не хочу.
– А почему не хочешь?
– Потому что это нехорошо!
И тогда опять снова да ладом.
– Это ты так считаешь.
– Да, вот именно.
– Держи это при себе.
– Я писательница.
– Вот и пиши о себе.
– Именно так я и делаю! Я – считаю – что это – нехорошо!
И так до тех пор, пока кто-нибудь не отступится или не начнёт драться.
Для удара замахнулся Франк. Он понял мой рассказ как вызов на бой и ответил тем, что было у него в распоряжении.
Когда после публикации книги выяснилось, кто почувствовал себя пристыжённым и опороченным, я и в самом деле так испугалась, что уже подумывала, не перестать ли писать. Я никого не хотела обидеть, но потом мне пришло в голову, что я же не требую от Ингмара, чтобы он прекратил врачебную практику.
«Что ни сделай, всё будет не так», власть налагает ответственность, и если я вообще больше ничего не стану делать, то буду виновата, что ничего не сделала.
Кто не хочет попасть в ловушку этой дилеммы, должен умереть. Я имею в виду: удалиться от мира. И уж тем более не рожать детей, хотя именно они потом станут причиной, чтобы игнорировать дилемму и продолжать действовать по совести. Как-нибудь. Например, иначе, чем собственные родители; например, рассказывая истории, которые я даю вам в руки, чтобы вы лучше понимали мир. Либо в созвучии, либо в противоречии с этими историями, но я вам всем уже сделала прививку. – Да? От чего? – От Ингмара, разумеется.
Идея для телевизионного фильма. Протагонистка Рези, писательница, уходит из профессиональной жизни, боясь злоупотребить данной ей властью, страшась фальшивых слов и ограниченности своего взгляда – и заботится теперь только о семье и её благополучии; и тут её полуторагодовалый ребёнок заболевает после прививки от дифтерии, коклюша и столбняка, сделанной у доктора Ингмара, и впадает в кому.
Плохо то, что Рези изначально была против любого рода прививок: это слишком рискованно! Это пропагандируется исключительно ради выгоды фармацевтической промышленности! Но доктор Ингмар её всё-таки уговорил.
Дескать, отказ от прививок – это хобби профессиональных матерей, которым больше нечего делать, кроме как ухаживать за больными детьми, а Рези не хотела считаться такой матерью.
Она подаёт в суд на доктора Ингмара и проигрывает дело – потому что она, разумеется, заранее подписала листок о согласии на риск и тем самым виновата во всём сама.
Я писательница. Я просто делаю то, что считаю нужным. (А что это было сейчас, вот только что? Делать прививки? Или лучше не надо? Говорить? Или лучше придержать язык за зубами? Делать или воздержаться, отрицать или поддержать, сделать именно так или совсем иначе?) Как бы то ни было: мои дети выбрали меня, поэтому станут поддакивать мне на всех поворотах и в спорных случаях, потому что они меня знают и благорасположены ко мне.
Гопля. А вот и нет. Точно так же я думала и про старых друзей.
Послание всем моим старым друзьям: для вас это всё ничего. «Наши дороги теперь расходятся» – это фраза Веры, из её прощального имейла ко мне. Я нахожу эту фразу пасторальной и деловой, могу себе представить, что и вам она понравилась именно поэтому. Во всяком случае, она для вас лучше, чем всё, что исходит от меня, так что примите её, пожалуйста, и идите в жопу.
Беа, как я уже говорила, ненавидит, когда я ругаюсь. Она моя старшая, но как раз ещё достаточно юная, чтобы всё равно любить меня, то есть: хотеть меня видеть и как-то понимать.
Она пока ещё не может по-другому, она зависит от меня.
Не слишком ли это насильственно – адресовать это послание ей?
Может быть. Но ей я тоже сделала прививку. Она могла бы умереть от этого.
Сама виновата
Беа родилась на свет зимним утром, больше четырнадцати лет назад, в Лейпциге. Ту зиму я могла бы, качая головой, причислить к «одной из этих зим», как будто я старая женщина, которая вспоминает о ещё более старых временах.
– Тогда ещё зимы были суровые, и квартиры отапливались углём, который по городу развозили на дребезжащих дизельных грузовиках, и грузчики с закоптелыми лицами, в брезентовых фартуках затаскивали его в сырые каменные подвалы. Можешь себе представить такое, Беа?
Нет. Четырнадцать лет для Беа большой срок, целая жизнь. А для меня это недавно, потому что я до сих пор помню, как пахло в нашем подвале и что к концу беременности я второе ведро для угля без спросу брала из отсека соседей, чтобы распределить вес. Слева полведра, справа полведра, а посередине Беа в животе. Минус пятнадцать градусов за окном и обледенелые ступени.
То были отнюдь не древние времена, а уже нулевые годы нового тысячелетия с мобильной связью и Интернетом, с геотермальным подогревом пола и железобетонными подвалами; только там, где мы жили, всё было ещё по-старому и потому доступно по цене для таких безденежных, как мы со Свеном.
Я могла бы родить Беа в одной из современных клиник, но вместо этого к нам домой пришла акушерка со слуховой трубкой. Потому что мы так хотели.
– Жизнь и смерть не в руках машин и не в руках людей, которые сделались продолжением машин. Это зашло слишком далеко, думали мы, Беа, ты меня слушаешь?
Акушерка поднесла слуховую трубку к моему животу и искала сердцебиение ребёнка. На ощупь определила положение ребёнка и нашла его хорошим; мол, всё пойдёт как надо, и так оно и было.
Свен протопил квартиру как следует. Сжёг в печи вдвое больше брикетов, чем обычно.
– Свен перерезал пуповину, Беа, слышишь? Важно, что при твоём рождении мы были только втроём, акушерка, Свен и я. Эти роды по старинке обошлись нам в изрядные триста пятьдесят евро, тогда как роды в клинике, с применением всевозможной хайтек-аппаратуры и под наблюдением пяти врачей полностью покрывались бы нашей страховкой.
Сама виновата, скажешь ты теперь, быть может, но это не так. Это пути, которые ведут либо туда, либо сюда, и я хочу, чтобы ты это знала. Что покрывается, что не покрывается, что нести сообща и от чего отказаться – это дело переговоров. Вопрос силы и влияния. Начать уяснять это никогда не рано: обстоятельства, в которых ты живёшь, дались не случайно, но и никак не принудительно. В основе их лежат решения и догматы веры, и тут ты должна спросить: чьи?
Моей матери, к примеру, в своё время акушерка в хорошо оборудованной клинике сказала, что материнское молоко вредно и что грудное вскармливание погубит её грудь. Лучше, дескать, давать ребёнку порошковое молоко, и тут же вручила ей инструкцию, полученную от представителя уже тогда глобальной продовольственной фирмы. У представителя в сумке были не только образцы продукта, но и научные статьи, поэтому он даже не платил акушерке комиссионные за то, что она навязывала роженицам его продукт. Акушерка была убеждена, что делает хорошее дело. Моя мать месяцами питалась одной манной кашей, чтобы сэкономить деньги на баснословно дорогую порошковую молочную смесь, тогда как её собственное молоко в груди перегорело.
– О’кей, – скажешь ты, – жаль, что бабушка тогда не могла купить себе стейк, но погоди-ка, фройляйн, я ещё не управилась. Бабушку тебе жаль, а для детей в Кении и Куала-Лумпур это было смертельно, потому что женщины растягивали этот порошок, разводя водой в бутылочке только половину дозы, и дети умирали от истощения. И тут ты, конечно, опять можешь сказать «сами виноваты», зачем слушались акушерку, а если уж послушались, так надо было придерживаться нормы, указанной на упаковке. Именно это и сказал адвокат этой продовольственной фирмы, и что научный труд о вреде грудного молока не был манипуляцией, а был обоснованным. В материнском молоке и правда нашли вредные вещества – например, удобрения и инсектициды для кукурузы, которая нужна для того, чтобы кормить коров, чьё молоко опять же используется в качестве ядовитой основы для порошка, понимаешь, что я хочу сказать, Беа?
* * *Беа вздыхает. Смотрит на меня этим взглядом, в котором ещё сохраняется след мудрости новорождённых; интересно, когда он окончательно исчезнет, и не отпугиваю ли я его моими историями.
Может быть. Но раз уж я так решила, буду безжалостно просвещать её, говорить ей всё, что знаю.
Январь 2003 года, это ещё в Лейпциге.
Холодное, лютое зимнее утро. Дорогие, сознательно выбранные домашние роды. Эта угольная печь, такая горячая, что уже хочется распахнуть окно, и на свет является маленькая девочка, мой первенец.
Пуповину перерезает Свен, лицо его сосредоточенно. Это выражение сменяется восхищением, когда акушерка передаёт ему новорождённую, чтобы зашить у меня разрыв промежности.
– Ах да, Беа, ты знаешь, что такое разрыв промежности?
Беа зажимает уши ладонями и поёт. Ей не нравится, когда я вхожу в такого рода подробности, однако разрыв промежности даёт превосходный повод лишний раз поговорить о женских половых органах. Я твёрдо решила делать это в присутствии детей как можно чаще, хотя сама, похоже, не нахожу для этого подходящих слов – да и откуда? Мне их не дали.
Акушерка надевает на лоб фонарь. Такие фонари используют туристы в кемпингах и спортсмены. Чтобы не включать верхний свет и не ослеплять им новорождённую, но при этом что-то видеть, когда накладываешь шов.
Не знаю, помогает ли это.
Много ли означает для меня лоб этой женщины с лучом света, направленным мне между ног, её экспертиза, для которой не требуется никакого особого оборудования, чтобы выступить в качестве эксперта.
Акушерка спокойно могла и позаимствовать что-то у совершенно посторонних людей, она выдумывает себе что-то практичное, чтобы её потребность в свете не шла вразрез с потребностью новорождённой в приглушённом освещении. Она использует свою голову вдвойне и втройне, руки у неё свободны, к тому же это так красиво выглядит среди резинок, которые пропахивают её причёску бороздами вдоль и поперёк. Акушерка показывает мне, что та форма и манера поведения, с которой одни люди лечат других и которую я считала неотделимо связанной с этой деятельностью, может быть напускной. Она демонстрирует такую форму, водружая себе на лоб фонарь. Закусив нижнюю губу, она соображает, достаточно ли будет трёх стежков. И решает, что да, достаточно.
Я действительно не хочу мучить тебя, дорогая. Я сейчас вернусь к тому, какая ты была хорошенькая у Свена на руках, как счастливы были мы оба, что теперь у нас есть ты.
Только ещё очень коротко о разрыве промежности: спустя пару дней я на этот разрыв посмотрела. При помощи ручного зеркала. Ужас, что я увидела, потому что моё влагалище – sorry, это опять не очень хорошее слово – уже не ощущалось как моё, а было толстое, обезображенное, израненное и совсем чужое. Ощущалось куда более чужим, чем выглядело. И так оставалось до тех пор, пока не рассосались кровоподтёки и разрыв не зажил полностью, зато потом влагалище принадлежало мне больше, чем когда-либо, потому что я так много проделала с ним, а оно так много проделало с тобой.
Свен вернул мне тебя, и ты начала сосать. Мою грудь, что я опять же не хочу особо подчёркивать, потому что пропаганда на сегодняшний день совсем свихнулась. Сегодня материнское молоко обязательно, и теперь есть возможность проверить, запомнила ли ты, что должна делать. И что, если ты почувствуешь, что грудному вскармливанию нет альтернативы? Правильно, сейчас же остановись и подумай: кто сказал и почему сказал? Кому выгодно это обстоятельство и кому оно вредит? Какой такой путь привёл к этому суждению?
Я, например, с моим выступлением против порошкового молока – просто гранитная мостовая на пути к грудному вскармливанию. Говорю тебе, это удобно и практично, а кроме того, сокровенно и красиво. Спроси Свена, он тебе расскажет про что-то другое. Как ему пришлось отдавать тебя, едва меня зашили. Как он мог оторвать тебя от себя? Вот видишь, я понятия не имею, что он тогда думал.
Ничего не было ясно с твоим появлением. У меня был первобытный страх, потому что я же дикарка, язычница и не верю в Бога с его большим замыслом. Ты не была для нас подарком, мы тебя сделали. И потом: пафф! – пафф! – пафф! – ещё двое твоих братьев и сестра.
Если же Бога нет, а всё только наши решения, наш лично выбранный жизненный путь, тогда вес нашей ответственности утяжеляется. Тогда это «сама виновата» из твоих уст я должна понимать как эхо моего первобытного страха, тогда у меня нет права затыкать тебе рот – наоборот, я должна быть тебе благодарна за указание. Спасибо, дитя моё, ты всё сделала правильно! Только отними, пожалуйста, ладони от ушей.
Я думала, дети любят слушать историю своего рождения. У меня в голове сохранена картинка про семью, которая мирно собралась в полном составе и торжественно вспоминает мифы о своём начале, лучше всего на диване, кутаясь в пледы, и лучше всего осенью. В камине потрескивают поленья, нет: сейчас все стараются понизить пылевые выбросы в атмосферу, и пусть лучше будет зажжённая свеча, все едят печенье и пьют какао, тесно прижавшись друг к другу. Вспомни про раскалённую угольную печь в Лейпциге в то зимнее утро много лет назад. Скажем так: ты была нашим первым счастьем. Поэтому мы назвали тебя Беа, что значит «счастливая».
Но ты на меня сердишься. Твоё счастье никак не установится. Тебя всё раздражает, диван тесноват для нас шестерых, только осень хорошо подгадала: на следующей неделе начинаются осенние каникулы, и все, вот просто все куда-нибудь уезжают. Кроме нас. Мы опять остаёмся дома, в нашей разухабистой квартире, в которой я отчаянно ищу свечу; погоди, Беа! Я ещё не закончила.
Но не беспокойся. Я до тебя ещё доберусь.
Самый последний срок – на Рождество мы станем как эта карамельно-пудинговая реклама, тогда и ты будешь как миленькая сидеть в кругу своих родных, потому что не бывает Рождества без семейного мира.
На Рождество мы будем как святое семейство в хлеву; там мама медиум, а дитя – маленький Спаситель, и на обоих можно молиться, оба безмолвны…
Чёрт побери, нет: на Рождество нас здесь вообще уже не будет. Наша квартира на самом деле не наша, она принадлежит Франку, а он решил от неё отказаться, вот и всё.
Не может быть, чтоб это была правда.
Я просто не верю.
«Ничто не длится вечно».
«Дети стоят денег».
«Человек человеку волк».
И: «Своих овечек надо держать в сухом месте».
Не угодно ли ещё что-нибудь из этих мудростей, Беа?
Беа меня не слышит, она в школе. Ещё в школе, и я пока могу сидеть здесь в покое и писать.
Я сижу в своём чуланчике, вообще-то это кладовка, которая в наши дни уже ни для чего не нужна. В наши дни в таком месте обычно устанавливают стиральную машину. Но у нас по-другому, у нас здесь сидит Рези и курит. Курит и тюкает по клавишам своего ноутбука, который того и гляди испустит дух. Часы в нём уже остановились, притом что это самое простое в компьютере, нет? Интернет тоже надолго пропадает, но это нормально, связи легко уязвимы и рвутся, я тоже была частью сети.
«Опять изображаешь жертву», – шепчет во мне Ульф.
Да, это верно, я исправлюсь: я сама виновата. Этому ящику уже двенадцать лет, а известно же, что такие устройства в наши дни не рассчитаны на долгий срок службы, самое большее раз в пять лет надо обзаводиться новым.
«Сама виновата, вот и расплата», как говорят дети.


