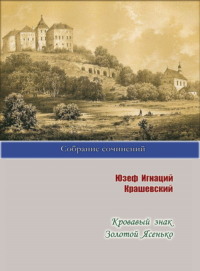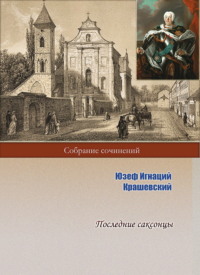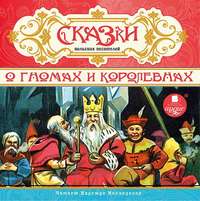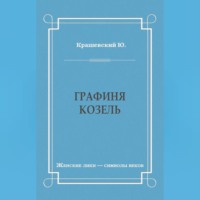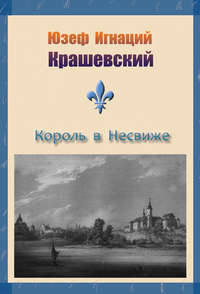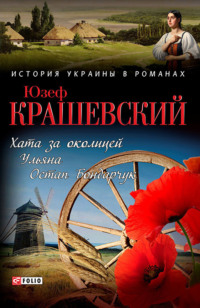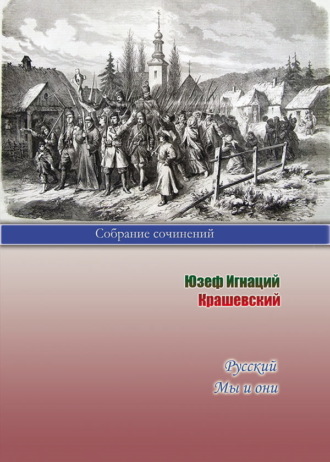
Полная версия
Русский. Мы и они
Даже, когда в первый раз въезжаешь в бедное Королевство, поражает неизмеримая разница страны, которая иначе, медленно, собственнными силами зарабатывала свою цивилизацию. Тут всё лучше усвоено, сильнее вросло в почву, на которой стоит. Революционная Россия, лишённая традиций, в судорогах пугливого деспоизма переворачивающаяся на Прокустовом ложе, думает, что и нам, как и им, достаточно Милютина, чтобы похоронить девятисотлетнее прошлое – потому что выносит нам приговор от себя. У них всё стоит на песке – замки и институции одинаково легко переносятся и замещаются одни другими; в Польше то, что выросло из её земли, имело время пустить в ней корни.
Важно-грустной показалась путешественнику Польша, в которой повсюду по дороге находил красноречивые руины, свидетельствующие, на первый взгляд, о былом величии и процветании, о сегодняшнем упадке и угнетении… Горе женщин, может быть, не столько его поразило, сколько горе всей земли, покрытой свежими руинами, объявляющими о пытке и боли. Чёрные орлы достаточно объяснили эти последствия любезно нам предоставленной протекции и воплощения этого великого государства… которое умеет уничтожать, но создавать не может.
Несмотря на свою бедность, Польша любопытным его глазам показалась восхитительно красивой и радующей сердце – что-то от этой земли говорило ему великой идеей, за которую она была распята на кресте и сто лет лежала в муках под издевательством палача…
Грустный и взволнованный Наумов въехал в Варшаву, а вид этих толп в чёрном, мрачных и гордых лиц, разбуженных глаз, в которых, казалось, наворачивается кровавая слеза, этих людей, скованных телом и вольных духом, почти унизил офицера. Россия со всей своей отвратительной мощью казалась ему маленькой, дикой, слабой – такой сильный дух заметно горел в этом народе и, казалось, предвещал неслыханную борьбу.
Было это перед апрельскими событиями, в те времена колебания правительства, которое уже знало, что собиралось делать, а начать ещё стыдилось. Большие политики, знающие расположение столицы и высокомерие, которое никаких уступок не допустит, заранее понимающие, что в идее небогатая Россия должна была обратиться к штыку и действиям, уже в это время направляли правительство на ту дорогу насилия, по которой оно позже пошло в действительности. Адъютант князя Горчакова, М… который заклинал его пустить кровь мятежной Варшаве, маркграф, иные советовали суровость как проверенное лекарство…
Правительство, как тигр, который готовится броситься на добычу, всё ещё сжалось, прежде чем на неё прыгнуть, ждало предлога, взрыва, оправдания… Оно ещё не порвало полностью с Европой и раздумывало, должно ли бросить ей перчатку, – боялось войны и не было к ней готовым… колебалось в выборе людей и средств.
Этот короткий промежуток времени со 2 марта немного более кажущейся свободы дал понять ему, что лишь бы чем польский голод не уталит…
Наумов прибыл среди этого накала, а вид Варшавы устрашил его и разволновал… Сразу на следующий день он побежал искать свою родню. Брат пани Наумов-старший умер пару лет назад, но семья его, довольно многочисленная, жила в Варшаве, частью с матерью, частью уже на собственном хлебе. Из трёх его сыновей один был при Варшавско-Венской железной дороге, другой – урядником в банке, третий, самый младший, в Медицинской академии. Старшая дочка была замужем, а муж её занимал какую-то должность на значительной фабрике в городе, вторая и третья жили с матерью. Поэтому дом тёти Наумова, пани Быльской, на Лягушачьей улице, кроме пожилой матери, занимали две взрослые и молодые девушки, а также молодой парень.
Узнав сперва, где они жили, Наумов на следующий вечер с бьющимся сердцем побежал на Лягушачью улицу. Пани Быльская, живущая на пенсию и небольшой капитал, который был плодом экономии её мужа, занимала несколько комнаток, бедных, но опрятных, на втором этаже. Одна служанка и в то же время кухарка обслуживала семью, мать которой привыкла к работе и дочек заранее к ней приучила.
Входили через тёмную прихожую, которая вместе с тем была входом в маленькую кухонку.
Был вечер и красивая девушка как раз зажигала лампу в этой клетушке, собираясь принести её в комнату, в которой все собрались на чай, когда робко на пороге показался Наумов. Путешествие его научило, какое неприятное впечатление эта злополучная ливрея иностранного деспотизма производила на всех в Польше.
Красивая девушка, занятая лампой, казалась чрезвычайно удивлённой при виде офицера и, даже не дождавшись вопроса, начала кричать:
– Это не здесь, это, очевидно, ошибка. Пан русский живёт на третьем…
Но Наумов спросил пани Быльскую.
– А что вы от неё хотите? – спросила удивлённая девушка.
– Я хотел бы её увидеть.
– Сейчас, сейчас… но кто же вы? Если разрешено спросить?
Офицер догадался, почувствовал, что перед ним была кузина; она не выглядела служанкой, хотя, когда работала, на ней был белый фартучек, а одета была очень скромно.
– Меня зовут Наумов.
– А! Боже! Наумов! Вы не…
– Я племянник пани Быльской… то есть…
Девушка засмеялась. В её лице видно было желание подойти к родственнику, но чувствовала отвращение к мундиру и фамилии. Не желая принимать решение о том, как принять такого близкого пришельца, Магдуся открыла дверь комнаты и позвала: «Мама, мама!»
Спустя мгновение на пороге появилась женщина высокого роста, ещё крепкая, сильная, румяная, в повседневной домашней одежде, с лицом, исполненным доброты и здравого смысла. Её седеющие волосы плохо прикрывал развязанный чепчик, в руке она держала чайничек.
Заметив Наумова, она посмотрела на него и на дочку… молча.
– Вот этот господин хочет увидиться с тобой, матушка, – воскликнула Магдуся. – Пан Наумов, – прибавила она с нажимом.
– Пан Наумов! А! – крикнул старая Быльская.
Офицер, будто бы по-польски, целуя ей руку, начал представляться, весь дрожащий и смущённый.
– Входите же! Входите! Это сын Миси. О, Боже мой! Сын Миси! Русский… дорогой Иисус!! А! Ты русский! Магда, подай лампу, просим, просим. Как поживаете?
И, хотя с каким-то опасением, она поцеловала его в голову.
Этот сердечный поцелуй старой женщины для жаждущего объятий и любви сироты был таким сладким, так схватил беднягу за сердце, что чуть ли не со слезами он начал пожимать ей руки, а у Быльской также появилось доброе чувство и она обняла его за шею. Наумов расплакался.
– О, милый Боже! – воскликнула, поднимая руку, Быльская, которая любила покойную больше, чем её муж, и долго с ним даже борьбу вела, желая сироту к своим шести детям присоединить.
– О, милый Боже! Вот это он! Это тот милый Стас! Но что это они из него сделали! Ведь и польский язык забыл! И уже целиком русский!
Вся семья сбежалась на это приветствие, которому слёзы и возгласы матери придали сердечный характер. Академик Якубек, называемый в семье Кубой или Куцем, мальчик, румяный, как яблоко, с чёрными горящими глазами, и старшая сестра Магдуси, Ления, возможно, Элеонора.
По очереди стали обнимать Наумова и приветствовать как брата, хотя Богом и правдой не ведали, кого в этом человеке принимают – друга или врага? Верили только в те слёзы, которые заструились из его глаз и обнажили в нём сердце.
За лампой и Магдусей всё это потекло в гостиную, над тапчаном которого висел портрет князя Ёзефа, справа – Костюшко, слева – Килинский. На обширном серванте Ян III доставал саблю в защиту христианства.
Среди этих людей и этих воспоминаний русский сел, весь дрожа; он уже был им благодарен, что его не оттолкнули, что ему отворили дверь, несмотря на язык, на каком говорил, и одежду, которая была на нём.
Девушки шептались.
– Какой он странный!!
– Красивый парень, – говорила Магда, – но какой омоскаленный!! Какой русский, сестра! Слышала, как он говорит?
– Ну, пусть-ка тут побудет, тогда мы его снова польскому научим.
Куба стоял напротив и, молча уставив на брата глаза, изучал его пылающим взглядом, достигал до глубины его души, открытой от волнения.
– Ну, девушки, делайте чай, когда Бог нам принёс такого милого гостя, – сказала Быльская, – и достаньте того от Крупецкого, потому что он, должно быть, требователен к чаю, потому что у них столица этого пойла, а мне подайте мой кофе… Ну, говори, говори, как ты к нам попал? Останешься ли с нами?
Наумов рад бы рассказать, но ему не хватало слов, он должен был сперва объяснить, почему напрочь забыл польский язык. Старая Быльская вздыхала и плакала, академик морщился, девчата мало что могли понять и осторожно смеялись над странными словами русского. Всё-таки он подкупил их всех тем, что на его лице они заметили сердце, что дрожал, что был смущён, что вроде бы стыдился той одежды, в какой им представился. Они чувствовали, что он совсем не был виноват, что ребёнком, сиротой, отданный в добычу России, он должен был превратиться в русского. В этой его оболочке они увидели страдание и начали его жалеть, как какого-то больного или калеку.
Наумов подкупил их покорностью, а выработалось в нём странное чувство, которое каждую минуту с прибытия в Варшаву росло. Двадцать лет воспитания на чужой земле не смогли стереть следов того, что в него влила материнская грудь, всё забытое пробуждалось, двигалось, возрождалось из пепла. Воспитанник Петербурга, он только чувствовал, что был ребёнком Варшавы и желал стереть с себя эту оболочку, которая сделала его чужим для них, может, ненавистным.
Ещё несколько недель до этого он считал себя русским, теперь кипела в нём польская кровь и чувство долга, какое она несла с собой. Он начал медленно говорить, ломая язык, смешивая два противоположных друг другу и портящих друг друга слова, но с каким привлекательным добродушием. Куба, сёстры его, сама пани смеялись и радовались этой ломке, доказывающей, по крайней мере, его добрые желания. Академик, который немного понимал по-русски, переводил, поправлял и, невольно притягиваемый к брату, присел к нему; он почувствовал, что надо было обратить его, что здесь одно знание языка тянуло сейчас за собой возрождение души и человека. Никогда ещё с детских лет Наумов не слышал этого языка, которым проговорил первые в жизни слова, с таким удовольствием звучавшего ему в живом доверчивом разговоре.
Эти звуки как песнь радости отразились в его сердце, ему казалось, что он вернул потерянную мать, семью и стёртые сны идеалов тех лет, в которых был ещё любимым Стасиком бедной вдовы. Странное чувство наполнило его грудь; всё это время, проведённое в мундировом плену, казался ему как бы тяжкым сном, из которого только что пробудился; он чувствовал облегчение в груди, ясней было в голове, утешался и радовался, только сам не мог объяснить этого утешения и радости. Честное иссохшее сердце медленно оживало.
А когда сестрицы рассмеялись над каким-то словом, он отвечал им почти красноречиво и в запале даже почти на хорошем польском языке:
– Не смейтесь, но сжальтесь надо мной, моё сиротство сделало меня тем сломанным человеком, какого видите перед собой. Я не стал им без мучения и отвращения, не отказался ни от своей веры, ни от языка, ни от матери-родины и праха матери с легкомыслием и равнодушием, предательство накормило меня тем, принуждение перевоплотило… Отец мой был русским, но был человеком, не обременяет его памяти ни одно пятно. Вы предубеждены против нас, и там на севере сердца бьются, и там желание свободы палит уста и сушит грудь, но это здание тюрьмы, что достигает от Вислы до Амура, от ваших равнин до Кавказа заперто тысячью штыков, запечатанно миллионом цепей и вырваться из него не может тот, кто однажды вошёл в его Дантовы адские врата…
Он опустил от стыда глаза и все замолчали, слушая его, и ему сделалось грустно…
Наумов был воодушевлён и разгорячён, сам удивлялся себе, так как чувствовал, что какой-то огонь горел в его жилах, и дал его ему один глоток нашего воздуха.
– Если в России тоже чувствуют тяжесть неволи, – воскликнул Куба, – почему же не пытаются его сбросить? Почему не порвут этих позорных уз?
– Это когда-нибудь случится, – ответил Наумов, – но не скоро, мы, русские…
– А! Ты называешь себя русским?? Ты?
– Я вынужден, – сказал, усмехаясь, Святослав, – ведь ношу их одежду, говорю их языком и принадлежу к ним. Нам, русским, нелегко действовать, века нас приучили к послушанию; не знаем, где искать тех ворот, через которые можно выйти из тюрьмы… Посмотрите на людей света и таланта, которые ведут нас за собой, на одного Герцена мы имеем сто непримиримых Катковых, Аксаковых, Шиповых и т. п. Когда правительство не может нас взять страхом, тянет безумием патриотизма… войско необразованное, народ тёмный, дворянство подавленное и привыкшее ко двору, бюрократия сгнила… кому же тут что сделать?
– А чувства к Польше?
– Читайте самых дружелюбных к вам и те не поймут Польши иначе, как горсти шляхты, которую ненавидят, которой пренебрегают… Фанатичный народ не терпит поляков, как неверных, старая родовая неприязнь ещё кипит… и разделяет нас.
Замолчали, но этот более серьёзный пункт разговора скоро прервали девушки смехом и шутками, старая Быльская начала рассказывать о матери Святослава, о его детстве и в весёлом шуме закончился этот вечер, который, может, был решающим для судьбы человека. Расстались друзьями, и Наумов вышел взволнованный, счастливый, хотя печальный…
Только на улице, как тень, пронеслось у него воспоминание о Наталье Алексеевне, и его удивило чувству страха, которое его охватило. По нему пробежала дрожь… туда тянула страсть, сюда – сердце… Наталья хорошо олицетворяла очарование неволи, этот дом – чистые удобства семейного круга и свободы.
* * *Впечатления первых дней росли с каждой минутой. Через неделю после знакомства с Быльскими старая Быльская напомнила Наумову о долге посетить Повязковское кладбище, на котором покоилась его мать.
Выбрали более тёплый и ясный день, вся семья по желанию предложила сопровождать его в этой экспедиции, Наумову требовался проводник, потому что один не смог бы найти даже этой дорогой могилы. Пошли пешком, не спеша, и в дороге воспоминания о дне 2 марта, ещё такие свежие в памяти всех, кто видел эту торжественность, занимали старушку, её дочек и академика, который был констеблем, поддерживающим порядок в стотысячной толпе; на его руке была бело-чёрная повязка.
Думая о той минуте, которая подъёмом духа равной себе не имела, глаза всех увлажнились слезами… Русскому описывали этот поход среди тишины, это весеннее солнце, это средоточие у могилы всех положений и верований, и победу, одержанную над русскими, которые, как бы пристыженные, спрятались и отреклись от своей власти.
Когда они шли на могилку, с краю они заметили могилу жертв, всю усыпанную венками, зеленью, покрытую многочисленными знаками почтения, которые, очевидно, принесли туда самые бедные руки. Несколько человек из города молились на коленях, взволнованные и молчаливые… И они тоже там остановились, а Наумов пошёл за Быльской отдать дань памяти останкам мученников.
– Тут лежат избранные судьбой, счастливые, – сказал Куба, вздыхая, – без памятника, потому что его, несомненно, Москва не разрешит поставить, но место их погребения есть и останется священным для всего народа. Если выбросят их останки, сохранит память песок, что их присыпал. Вместо мраморного камня хотели им насыпать только гигантскую могилу и это было бы более подходящим… В первые минуты запала тем братьям нужно было схватить землю ладонями, шапками, в полах и тут же выполнить счастливую мысль… но все тогда боялись подстрекать и так уже раздражённые чувства, что как можно быстрей хотели разогнать толпы и завершить погребение, выпрошенное чудом у Горчакова. Кто сегодня знает, скоро ли будет подобное этому! Может, никогда.
– А такая могила, как Костюшковская, под Краковом, – воскликнула одна из девушек, – была бы одним из наикрасивейших памятников Варшавы, – мы бы землю фартуками носили… но теперь… теперь уже не позволят, говорят, что солдаты принесённые венки ночью воруют и разбрасывают… хоть каждый день снова как бы чудом находят все могилы ими увенчанные…
– Действительно, – сказал академик, – велик был тот день, когда тела этих несчастных несли по городу, когда мы их со скорбным триумфом вели на этот отдых, окружённых венками и пальмами, среди такой великолепной тишины, которая, словно объявляла рождение новой эпохи. Народ чувствовал, что входил на дорогу, полную чудес и ведущую к возрождению… престыженные враги скрылись…
– Почему же тогда, – шепнул взволнованный Наумов, – вы не пробовали сразу, пользуясь испугом, слабостью неприятеля, выгнать его и стряхнуть узы?
– Многие к этому рвались, – ответил Куба, – но общий инстинкт победил и день тот прошёл спокойно. Многие из нас придерживались того убеждения, что, хотя всякие вооружённые попытки выбиться из неволи у нас наиболее оправданы, польская революция не должна быть такой, какой были и могли быть иные. Те наши походы с крестами и хоругвиями против саблей и штыков, которые вышли как бы из души народа, – вот пример для будущей борьбы.
Бороться мы должны не тем банальным земным оружием, которого у русских больше и которое лучше, но оружием, против которого они не могут ничего поставить, – жертвой и смирением. Ежели мы сможем удержаться на этой дороге, не сходя с вершины, на какой мы были второго марта, мы, несомненно, победим. Мы слышим и не удивляемся тому, что русские были бы рады, если бы мы выступили против них с оружием в руках. Таким образом борьбу с небес мы привели бы на землю к простым повседневным условиям боя. Вы, верно, знаете, – говорил он далее с запалом, – ту битву гуннов, которую духи переносят в воздух, вот мы таким духом должны подняться, чтобы наша война стала боем духов, тогда миллионная армия вашего царя будет для нас нестрашна, потому что ни один солдат из этого миллиона на ту высоту, на какую мы станем, подняться не сумеет.
Наумов с удивлением слушал, но было видно, что он не совсем соглашался с принципами академика, хотя его запал, очевидно, на него повлиял.
– Из этого вижу, – сказал он, – что вы вовсе не думаете о вооружённой революции, о взрыве, которого все в России боятся.
– Ошибаешься, – отвечал Куба, – очень многие о том думают и верят, может, что когда весь народ восстанет как один человек и начнёт борьбу за свободу, победит. Но я не принадлежу к тем людям, кои для подъёма Польши хотели искать обычных средств, изношенного оружия, заговоров и революции. Сотни лет уже столько вооружённых революций напрасно устраивали и, кажется, что прошли их время и эра; огромные армии, превращение людей в солдаты, а городов – в крепости делают восстания почти невозможными. Эти революции с поля баррикад и уличных боёв должны перенестись на совсем иные – на кладбища, в костёлы, в суды, в публичные собрания, а вместо солдат с оружием в руках, сражаться в них будут женщины, дети, старики, священники, и умирать с песней триумфа.
Тут Кубе изменил голос, он был сильно взволнован, Наумов слушал, но почти с издевкой усмехался – так был далёк от великой мысли честного парня, который показался ему странным мечтателем. В самом деле, о такой революции, о какой говорил Куба, Наумов не имел даже представления.
Русская молодёжь хватает революционные идеи, как всякий запретный плод, идёт в них очень далеко и в теориях своих не знает никаких границ, но о революции духовной, о какой говорил академик, никто в Москве представления не имел.
На этот раз беседа прервалась, так как пани Быльская вошла уже на само кладбище и вела Наумова на могилу его матери. Сын был глубоко тронут, приближаясь к скромному камню, покрывающему останки той, любовь которой он помнил в жизни как первую и последнюю. Живо он вспомнил ту минуту, когда в траурной одежде стоял заплаканный перед чёрным гробиком, прижимаясь от плача к няне; он опустился на колени и все с ним в молчании окружили могилу и мгновение молились перед ней потихоньку. Потом они молча стали прогуливаться по тому Повязковскому кладбищу, такому скромному и полному стольких памяток. Всё-таки ни один мрамор и самый великолепный надгробный камень не произвели на него такого впечатления, как эта простая могила, усыпанная множеством венков и облитая миллионом слёз.
Старая пани Быльская, поплакав, начала Наумову обильно рассказывать воспоминания о его матери, о её благочестии, как заботилась о нём в детстве.
Это повествование ещё больше будило чувства Наумова к родной земле, от которой он так долго был отдалён; в нём стерались следы русского воспитания, которые с польским элементом объединить было невозможно. В целом, хотя короткое пребывание на кладбище было решающей минутой в жизни этого человека, несмотря на фамилию и русское происхождение, он почувствовал себя поляком.
Он уже был им, но, как и все те, которых дала нам, воспитав и вскормив своим молоком, Москва, неся в груди горячее чувство, любовь к великой свободе, принёс в голове странные и не наши революционные идеи, которыми заражены были честные, горячие и испорченные тайным схватыванием каких-либо помыслов университеты и учреждения деспотизма. Отсюда к нам приплыла революция ярости и силы вместо революции мученичества и жертвы, инстинкт которой жил в народе. Пусть тут никто не осудит сказочника за преувеличение, за ненависть, за заблуждение; тот, кто это пишет, смотрел на рост, генезис революции, на прививание её в умах юношей, в которых всякие принципы, кои должны были служить для руководства в политической жизни, притупляла.
Таков всегда плод плохого образования, когда мысль отовсюду встречает препятствия в своём натуральном свободном развитии, ничто не служит революции лучше, чем деспотизм, он её распространяет, ухаживает, разводит. Самые дикие теории общественных переворотов растут в порождённой им темноте, всё кажется разрешённым против этого невыносимого бремени, а оттого, что умничать, убеждать, сбивать и учиться не разрешено, вылупляются тайные монстры на гнойниках деспотизма. Обманутая молодёжь для возвращения прав, принадлежащих человеку, всё считает оправданным, хватает то же оружие, которым с ним сражались, и им воюет, насилие хочет сопротивляться насилию, против вынужденных клятв ставит идеи дозволенного лжесвидельства, против воровства ставит вымогательство, против скрытых судов – кинжалы.
Наумов в глубине души был очень сильно убеждён, что полякам всё разрешено, чтобы вернуть свободу и независимость, и отнюдь не чувствовал того, что только благородными средствами и благородными действиями можно выкупить из неволи.
Несколько брошенных Кубой мыслей странно бегали по его голове, пробуждая сомнения, и по возвращении с кладбища он пригласил к себе на чай брата-академика. Они проводили дам на Жабью улицу, а так как для генерала было нанято просторное жильё в Новом Свете, которое теперь до его прибытия занимал Наумов, повернули к нему. Какого же было удивление офицера, когда почти у самой двери он встретил Генрика, которого давно напрасно искал в Варшаве.
– А всё-таки, – воскликнул Наумов, – я тебя сцапал…
– Что за чёрт! Ты здесь? Откуда?
– Я недавно прибыл как квартирмейстер, опережая генерала, но тебя конфискую и заберу сейчас, пойдём с нами. – Это, – добавил Наумов, показывая на Кубу, – это мой достойный брат, Якуб Быльский, которого тебе представляю.
Генрик рассмеялся, подавая академику руку, потому что знал его отлично.
– Как это? Вы знакомы? – спросил удивлённый Наумов.
– Все работники одного дела должны знать друг друга, – сказал Генрик, – и хотя Куба не принадлежит к моему кружку и нашим убеждениям, всё же мы добрые приятели. Но ты, Святослав, – докончил он живо, – новообращённый?
– Тихо! – ответил Наумов. – Хоть плохо говорю по-польски, но уже по-польски думаю, – тут он подал ему руку, – я ваш.
– Это отлично, – закричал Генрик, – твоя фамилия делает тебя не подозрительным, можешь оказать нам большую отдать услугу…
– Я готов на что угодно, что мне прикажут.
Обнял его Генрик, Куба молчал и серьёзно задумался.
Когда подали самовар и слуга ушёл, прерванный на могилках разговор завязался заново.
– Я плохо вас понял, – сказал Наумов, – мне кажется, что вы хотите какой-то бабской, костёльной революции, на фанатичном соусе, тогда наверняка Польшу не спасёте.
– Я тебе скажу, чего они хотят, – добавил Генрик, – это идеалисты, они хотят Москву, бьющую их кулаком, поразить духом… Тованизм, доктринерия, спиритизм, заблуждение – согласно их плану, когда ударят по щеке, подставить другую и так далее.
– Слушай, – воскликнул Куба серьёзно, – ты хотел надо мной пошутить и изложил, может быть, лучше меня мою теорию революции. Да, мы против мощи царей и их силы так должны идти, как шли первые христиане против римских полубогов. Если бы небольшой отряд этих первых слуг Христа вступил бы в борьбу, на мечи и копья, был бы несомненно побеждён, он иначе понял свершение великого дела возрождения – молился в катакомбах, шёл, распевая, в цирке, на зубы и когти диких зверей; более слабым неофитам позволял служить на дворе Нерона, ночью совершал жертвы, и, вынужденный кланяться ложным богам, только вставал великий, непобедимый, сильный. Вот как мы должны сражаться с языческим деспоизмом, не его оружием, не штыками, не винтовыми штуцерами, но готовностью мученичества, гражданской отвагой. Я не являюсь, – добросил Куба, – изобретателем этой системы, им есть весь народ, который инстинктом встал 27 февраля против штыков, открывая грудь, распевая песнь триумфа. Первая эта проба была экспедицией, той дороги, указанной нашими жертвами, нам нужно держаться.