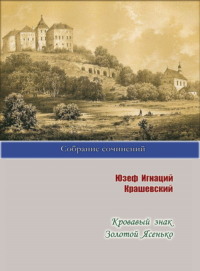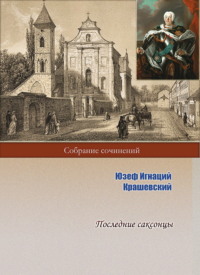Полная версия
Русский. Мы и они
Нельзя любить революцию ради революции, ни отрицать, что она нарушает идею общественного порядка, что пробуждает плохие страсти, что, как инструментом, он должен часто пользоваться людьми не первой воды. Но кто же виновен, когда давление делает это зло необходимым?
Наумов невольно почувствовал себя увлечённым горячей проповедью Генрика, но всё его прошлое не располагало чрезмерно принять эти идеи, не чувствовал ещё призвания к действию, уже готов был смотреть на них с состраданием, но, видимо, имел отвращение к решительному действию. Несмотря на это, как каждому более тёплому чувству, которое возвышает человека и облагораживает, он позавидовал запалу Генрика, его мечтам и даже опасностям, которым мог подвергнуться.
– Мне не трудно догадаться, – сказал он, – что, если что-нибудь произойдёт, то ты, небось, со сложенными руками стоять не думаешь?
Генрик усмехнулся.
– Ну, а ты?
– Я, – сказал медленно Святослав, – не чувствую в себе никакого призвания к переустройству мира, ни сил к этому, я готов, аплодируя, приветствовать новую эру, но…
– Но поработать для неё ты не думаешь, – прервал Генрик. – Вы почти все такие, либерализм ваш и желание реформ кончается на платонических вздохах к Господу Богу, чтобы вдохновил своего помазаника. Вы хотели бы хлеба, но муку молоть и рук пачкать не желаете. Поэтому, быть может, Россия ещё долго, вздыхая, будет поднимать ярмо, потому что правда то, что сказал какой-то публицист, что каждый народ имеет такое правительство, какое заслуживает.
На этом на мгновение разговор прервался, а Генрик не открылся больше приятелю, который его также развивать не думал.
Они разговаривали так до полуночи, а когда пришли почтовые лошади, начали прощаться с добродушием и сердечностью.
– Стало быть, до встречи в Варшаве?
– До встречи, Наумов, жаль тебя, что ещё запрячься в работу не хочешь, но даю тебе слово, – воскликнул Генрик, смеясь, – что, подышав нашим воздухом, ты должен измениться! Впрочем, если ничто другое тебя не вдохновит, тогда какая-нибудь красивая полька тебя обратит.
Наумов вздохнул.
– Слушай-ка, может и ты влюбился в эту дочь генерала, от которой все офицеры вашего полка сходят с ума? Стыдись, если должен влюбиться, то не в русскую!
Святослав весь покраснел.
– О! Поймал я тебя, птичка, даже не отрицаешь; теперь понимаю, почему тебе никакой заговор не по вкусу, но пусть только красавица предаст, а сердце закровоточит, увидишь, какой из тебя будет горячий революционер. До свидания!
Сказав это, они расстались, обещая вскоре увидеться в Варшаве.
* * *Утро следующего дня Наумов немного проспал, и ещё не оделся, когда услышал в прихожей шум. Дверь открылась и вошёл, как обычно, в шапке на голове и плаще, барон Книпхузен… барон, недавно присланный из кавалергардов в линейный полк пехоты, что означало, если не полную потерю привелегий, то, по крайней мере, какое-то лёгкое наказание за таинственную провинность и какую-то немилость.
Тихо говорили, что поводом к ней были некоторые отношения с женщиной, информация о которых дошла слишком далеко. Но как всю жизнь барона, так и этот случай покрывал туман, а он о себе не говорил никогда. Только его внешность и фигура выдавали Дон Жуана: бледный, высокий, очень красивый, полный панского достоинства и пренебрежения, имел презрительную мину, издевательскую, равнодушную, казалось, что жизнь и будущее не много его уже интересовали, тем больше заботился о настоящем, которое старался сделать для себя более приятным. Книпхузен был самым безумным гулякой в полку, а в обхождении с товарищами самым дерзким нахалом. Грустный, хмурый, безжалостно насмешливый, когда открывал уста, барон презирал людей, мир и всё, что они привыкли уважать. Был остроумен, видно, раньше много читал, знал немало, но теперь и книги его уже не занимали.
Был это человек поношенный и изнурённый, хотя молодой, скучающий и живущий только потому, что ленился петлю себе накинуть на шею.
Товарищи его боялись, старшие даже имели к нему некоторые соображения, но что всего удивительней, Наталия Алексеевна, полновластная пани сердец, подчинённых отцу, казалось, была с бароном более послушной, чем с другими.
Он один в неё не влюбился, был вежлив, холоден, немного насмешлив с ней, но очень осторожен. Быть может, именно поэтому ему то казалось, что навязывалась к нему, то вовсе его не замечала. Отзывалась о нём обычно очень плохо, но слишком часто говорила, выдавая себя, что он не был к ней совсем равнодушен, шпионила за ним, не терпела и всё же краснела всякий раз, как он входил в комнату. Барон открыто над ней шутил, хотя чрезвычайно вежливо и прилично.
Книпхузен с Наумовым не были в хороших отношениях, характеры их не согласовались и не были совсем противоположны, чтобы тянуться друг к другу. Поэтому молодой офицер удивился, видя его у себя так рано, а тем более, когда оказалось, что барон имел под плащом только халат.
– Ты пил уже чай? – спросил, зевая, гость.
– Нет, но самовар готов.
– Очень хорошо, и я с тобой выпью… но есть у тебя ром и лимон?
– Пошлю за ними, если хочешь.
– Пожалуйста, чистый чай – очень правоверный русский напиток, но для людей, нуждающихся в пробуждении, очень лёгкий… ром его делает сносным. Вижу, – добавил барон, – что ты удивляешься, что я поспешил к тебя с таким ранним визитом… но не забывай, что я стою в трёх шагах, что мне скучно и что вчера, возвращаясь поздно, видел почтовую кибитку перед твоей дверью. У тебя был гость? Что слышно? Гм?
Сказав это, он уселся, а скорее лёг, на канапе, запустил белую руку в чёрные пряди волос и с интересом поглядывал на хозяина.
– Мой бывший товарищ по корпусу по пути в Варшаву минуту побыл у меня, – сказал равнодушно Наумов.
– Из Петербурга?
– Да, из Петербурга.
– Что же в Питере? Великое возмущение? Великие страхи? Великая злоба или великий хаос?
– Мы об этом мало что говорили, – прервал Наумов, – больше о себе и товарищах.
Барон начал свистеть; а через мгновение сказал, крутя папиросу:
– Слушай, Святослав, ты за шпиона меня принимаешь что ли?
– Что же это, барон?
– Как же ты хочешь, чтобы я поверил, что вы вдвоём с Генриком (потому что я его знаю, и знаю, что был) на протяжении нескольких часов болтали незнамо о чём, когда над головами у вас гремит революция?
– Думайте что хотите, несомненно то, что о Петербурге мы говорили меньше всего!
– Тогда о Варшаве! – усмехнулся барон и сразу медленно добавил, смеясь: – Это только моя лень, что спрашиваю тебя, о чём вы там разговаривали. Немного потрудившись, я мог бы почти дословно угадать ваш юношеский разговор. Естественно, ваши головы горят, когда вы слышите о революции, сердца бьются, вы думаете уже мир от цепей расковать и построить Речь Посполитую!
Он улыбнулся и говорил неспешно дальше:
– Всем этим я уже переболел и пережил, как оспу. Вам, молодым, нужно всё-таки чем-то занять себя, но все эти красивые утопии – это груши на иве, мой дорогой Наумов; мир так идёт к лучшему, как раньше паломники ходили в Троицкую Лавру: два шага вперёд, один назад, а очень часто шаг вперёд, а назад два. Мир будет миром, зло злом, а сколько воробьёв поймают на мякину, – это чистая прибыль от всей работы.
– Я признаюсь вам, – прервал Наумов, – что я тоже не очень верю в утопию…
Барон долго смотрел ему в глаза и серьёзно сказал:
– В самом деле? Это меня удивляет, я имею право ни во что не верить, но ты – нет. Оказывается, что либо я в тебе ошибся, либо ты ещё не пробудился. Человек должен рано или поздно пройти через такие необходимые болезни, как оспа, скаралтина и коклюш. Ну, что он тебе говорил?
– Ты угадал, – отвечал, смеясь, Наумов, – он много мечтал…
– Поляк, ничего удивительного, это народ ещё гораздо младше нашего, если бы его было немного больше, я всерьёз боялся бы за Россию. Подумай только, Наумов, какими мы выглядим при них старыми и холодными! Поляк молится, плачет, любит, верит, даёт себя обманывать аж до самой смерти, возьми нашего брата хотя бы самой горячей натуры: в двадцать лет уже летает за цыганками, а в салоне считает приданое, а в церкви стоит как столб, но думает о вечерней игре или о ночной гулянке, слёзы ему только хрен выжимает, а из страха готов на все подлости, каких от него кто требует. Нашему правительству вовсе не нужно бояться революции, наш брат капли крови не прольёт за убеждения, потому что их нет. Мы – народ практичный и зайдём далеко…
Сказав это, Книпхузен налил себе обильно рома в чашку и так говорил далее:
– Через две или три недели будут у нас потихоньку шептать с симпатией о Польше, но это быстро прекратится. Генералам это на руку, потому что заработают на переходах и транслокациях, офицерам на руку, потому что погуляют, а что если ещё военная стопа, это и двойная пенсия.
Солдатам это нравится, потому что будут грабить, чиновники уже облизываются, потому что в мутной воде взятку брать лучше всего. Поэтому все возьмутся за поляков, сдерут с них кожу, нашумятся патриотизмом и баста.
После этой речи барон сделал небольшую паузу.
– Что до меня, – сказал он через мгновение, – я рад, что сменю квартиру, всё-таки Варшава – это город, не такая дыра, как тут, по крайней мере, найдётся добрый трактир и кандитерская, и человек от недостатка женских лиц не будет вынужден рекомендоваться либо к Наталье Алексеевне, либо к кухарке Прасковье.
Наумов нахмурился от этого воспоминания и сказал серьёзно:
– Прошу вас, не отзывайтесь так о Наталье Алексеевне.
– Меня радует, – сказал барон, смеясь, – что хоть в этом аспекте вы молоды, Наумов, – но не могу похвалить вашей первой любви, ведь это, несомненно, первая?
Наумов молчал, хмурый.
– Я ведь люблю вас, – добавил Книпхузен, – и поэтому посоветовал бы вам для первой любви выбрать хотя бы Прасковью, а не такое создание, которое родилось без сердца, как иногда телята рождаются без головы. Намучаешься, отчаишься, она над тобой посмеётся, только и всего.
– Почему вы думаете, что Наталья Алексеевна?..
Барон не дал ему докончить и холодно сказал:
– Наталья только одно существо может любить на свете – себя. Как же вы не видите, что ей нужно десять тысяч рублей дохода, а потом мужа, хотя бы и шестидесятилетнего; это всё едино…
– Знаете, барон, – с кислой улыбкой бросил Наумов, – это похоже на то, что вы в неё влюбились и мстите за холодность…
– Оно, может быть, так и выглядит, – отвечал совсем не обиженный предположением Книпхузен, – но если бы ты меня знал, в таких бы глупости не подозревал. Я уже так перелюбил, что если бы даже Наталья Алксеевна при своём обаянии была действительно женщиной, уж меня охомутать не сумела бы. Ты видишь, что я дошёл до того, что на одну чашу весов кладу её и кухарку Прасковью, а, сказать правду, предпочитаю Прасковью; Прасковья имеет сердце… делимое до бесконечности, но имеет…
Наумов так был обижен, что слов ему для защиты не хватило.
– Видишь, – говорил далее барон, – какая из меня испорченная бестия, но этому не помочь, по той причине, что человек может испортиться, а исправиться не сумеет; таким я уж и сдохну. Если бы ты меня послушал, обходился бы с Натальей так же, как я; чем больше ты будешь перед ней падать, тем она агрессивней будет издеваться над тобой. В твоём возрасте без этого обойтись нельзя, а от такой нездоровой любви люди иногда с ума сходят.
Так, смешивая три по три, барон выпил полбутылки рома, выкурил шесть папирос, и бледное лицо его покрылось живым румянцем.
По нему было видно, что этот напиток искусственно пробудил притихшую в нём жизнь, но симптомом возвращения к ней были только более злобные насмешки. На лице Наумова отобразилось как бы жалость, отблеск которой барон подхватил и понял.
– Не жалей меня, – сказал он, усмехаясь, – может ли человек быть счастливее меня? Смотрю на мир, как на комедию, в сердце пустота, голова не глупая; если бы не лень, дошёл бы, куда хотел, но зачем? Похоронят ли меня в генеральских погонах, в солдатской ли шинели, всё равно нужно сгнить!
– Я прав, – прибавил он спустя мгновение, – что Генрик вчера польским либерализмом тебе голову напряг; я пришёл специально, дабы её освободить. Революции делают такие люди, как ты и он, а таких людей во всей России, может быть, несколько сотен, когда таких, как я, имеются тысячи. Что вы можете сделать? Вы, люди совести, что будете играть народу одну песенку, какую вам диктует убеждение, а мы ему сумеем напеть то, что будет нужно!
– Благодарю вас, – сказал Наумов, – что с такой заботой прибежали исцелить меня от мнимой болезни, но верьте мне, я до сих пор не заразился и мне кажется, что мы до каких-либо перемен мы не дозрели.
– И не дозреем, – воскликнул барон, – потому что гниём. Это грустная вещь, но правда. Я сам прогнивший и вижу это по себе; я завидую здоровым, но вылечится не смогу, чем же я виноват, что с колыбели в меня вливали яд, что я никогда не был молодым, что неволя сделала из меня невольника, который уже даже в свободу не верит?
Сказав это, барон медленно встал, набросил на плечи плащ и, напевая какую-то нелепую французскую песенку, медленно, не попрощавшись, вышел от Наумова, на которого и пребывание его, и разговор с ним произвели нездоровое впечатление. Вместо того, чтобы вылечить его от болезни молодости, Книпхузен дал ему желание всех её иллюзий и безумств.
* * *Спустя несколько дней Наумов был вызван к генералу, полк готовился к выступлению, однако заранее, нужно было обеспечить жильё, склады и разные удобства для семьи господина генерала; поэтому вперёд решили выслать с поручениями именно Наумова.
Каким образом выбор пал на него, объяснить трудно; быть может, Наталья хотела ненадолго избавиться от назойливого, хотя очень покорного поклонника, который следил за каждым её шагом и не раз угадывал мысли; быть может, ожидали, что Наумов лучше сумеет выполнить данный ему приказ, нежели кто-нибудь другой. Верно то, что генерал советовался с дочерью по этому поводу и не без её добавления указал офицеру, что он должен отправиться в Вршаву и там ожидать полк.
Будто бы случайно во время разговора вошло полковое божество в ошеломляющем утреннем наряде, с улыбкой на губах и тем смелым взглядом, который, направленный на других, кажется нам неприличным, но когда падает на нас самих, опьяняет.
Наумов сто раз это испытал, гневался, когда этими вызывающими очами генераловна смотрела на холодного Книпхузена, млел от удовольствия, когда ими смотрела на него. Девушка была весёлой и прервала отца, коротко выдающего приказы, кладя ему доверчиво на плечо руку.
– Папенька, вы, конечно, попросили Святослава Алексеева, – воскликнула она, – чтобы нашёл для нас жильё обязательно на большой улице, недалеко от замка, чтобы я имела окно с фасада и могла рассматривать, как наши казаки усмиряют взбунтовавшуюся Варшаву…
Наумов молчал, но это презрение сильной боли, которую не знал, хотя уже её предчувствовал, обливало его лицо кровавыми волнами.
– Но, папенька, – говорила весёлая, красивая девушка, поправляя рукой кудри богатых золотистых волос, – две комнаты и салон для приёма; салон для меня, две комнаты, для Маши и для Ольги по одной, для брата… и притом что потребуется… только прошу вас, чтобы это было красиво и весело…
Безутешный Наумов слушал… а генерал, видя, что он принимает подробную инструкцию, посчитал правильным только добавить:
– Бумаги и деньги на дорогу возьмёте в канцелярии, желаю вам удачной поездки…
Сказав это, он склонил голову и ушёл, но Наталья осталась; её губы улыбались, неизвестно чему и на что, не любя этого парня, который сходил по ней с ума. В ту минуту, когда он её покидал, она желала сильней записаться в его памяти, боялась, чтобы у неё этой добычи не отобрали. Кокетки, как обжоры, жадные, всегда хватают больше, чем нужно, хотели бы вырвать у других то, что им самим не пригодится.
– Я уж знаю, – прибавила Наталья тише, – что вы постараетесь, чтобы у меня было приятное жильё…
– Можете ли сомневаться, – вздохнул опьяневший от её взгляда и одухотворённый молодой человек, – сделаю, что только будет возможно.
– Сделайте даже то, что невоможно, – прервала Генералова, – потому что я взаправду увяну в этой Варшаве! Ежели хотя бы сквозь окно не буду смотреть на свет… Ужасный город… весь в трауре, ежедневно бои на улицах, русского общества мало… и то незнакомое… скука… ни балов, ни раутов, ни музыки… а офицеры заняты службой… что мы там будем делать?? Правда, – добавила она с волнением, – представь себе, что зато увидим настоящую революцию, а это как извержение вулкана, вид необычный и в наших холодных зонах незнакомый! Но какое мне дело до той революции, которая не развлекает и не танцует! Я всё слышала на богослужениях и костёлах.
Она говорила это живо, легкомысленно, а глазами постоянно жарила этого несчастного Наумова, который, действительно, как рак в огне, всё более красный принимал цвет.
Девушка, видя, как действует взгляд, напрягла его силу, меняла выражения, издеваясь над молодым человеком, как дети иногда играют с пойманным жуком, судорожные движения которого их забавляют…
Наталья то прохаживалась по комнате, то останавливалась, прищуривала глазки, вздыхала, будто бы ей было тяжело с ним расстаться, прикидывалась грустной, играла в скрытые страдания, и даже более старший и более опытный мужчина купился бы на эту игру, которую инстинкт женщины, всегда почти точный, делает для того, кому она предназначена.
– Только там не дайте какой-нибудь польке соблазнить вас, – добавила она, угрожая пальцем, – потому что это, слышала, самые опасные кокетки, каких свет видел… и не забудьте о нас…
Наумов осмелился, возможно, первый раз в жизни, пробормотать:
– О! Я рад бы вас забыть, Наталья Алексеевна.
– А это прекрасно! Почему? – обрушилась явно обиженная девушка.
– Потому что вы над самыми лучшими вашими друзьями только насмехаетесь, – шепнул Наумов, который с удовольствием пил яд.
Она странно рассмеялась.
– Как вы плохо знаете людей и женщин! – тихо ответила отвлечённая женщина, этим шёпотом придавая словам вес.
Наумов стоял очарованный, она пожала ему руку, имела его уже достаточно – рада была от него избавиться, но, как Партха, вонзив в его грудь стрелу.
– Ну, счастливой поездки, – сказала она, – и всё равно вам повторяю: не забывайте о нас, обо мне…
– А вы? Будете хоть иногда вспоминать вашего вечного слугу? – спросил он.
– Откровенно, мне вас будет очень не хватать… никто лучше пряжи для сматывания мне не держал, – воскликнула она издевательски, закрутилась и хотела уйти, когда неожиданно увидела стоявшего с минуту на пороге барона, который, крутя усы, поглядывал на эту сцену с насмешливым сожалением.
В свою очередь Наталья покраснела, Наумов побледнел.
– Могу засвидетельствовать, – сказал с порога барон, – что, кроме великого таланта Наумова держать пряжу, который делает её гораздо более удобной, чем стульчик, у него есть и другие, менее оценённые и более почётные, может быть… Ни один из нас, Наталья Алексеевна, так достойно, глубоко, как он, не умеет любить… Что мы стоим рядом с ним? Старые, испорченные насмешники!! Когда он говорит о вас, в его глазах наворачиваются слёзы и голос дрожит… Верьте мне, верьте, золотое сердце!! Но из золотых сердец делают… пряжки для туфель… а из искусственного золота – кольца, которые пачкают пальцы, Наталья Алексеевна, так на свете.
– Какая неоценимая дружба! – прервала раздражённая девушка, краснея немного от гнева, немного от стыда.
– И в этот раз искренняя, – сказал барон, – я вовсе не шучу с честью, Наумов – идеальный поклонник. Хорошо получилось, что вы посылаете его в Варшаву поискать жильё; если не найдёт такого, как вы хотите, он готов душу дьяволу продать и через две недели поставить для вас каменицу…
– Вы бы этого не сделали! – шепнула Наталья.
– Я! Нет, – сказал барон, – во-первых потому, что душа два раза не продаётся (даже сказочная), а моя давно уже оплачена и заложена… Увы! Некому её выкупить… во-вторых, что я готов бы для испытания вашего терпения сделать что-нибудь во зло…
– Вы любите мучить, барон?
– Чрезвычайно, – ответил Книпхузен, – из человека всё хорошо выжимает пытка… и, как прачка воду из платка, так из людей те, кто их мучают, выжимают добродетель, самопожертвование, мужество… жизнь.
– До тех пор, пока всё не выйдет? – спросила девушка.
– Я кажется воспользовался плохим сравнением, – прервал равнодушно барон, – но вы, несмотря на это, меня поняли, не правда ли? Я помешал прощанию? – добавил он через минуту. – Мне уйти?
Наумов нетерпеливо мял в руках шапку.
– О! Мы уже попрощались, – промолвила Наталья, равнодушно склоняя голову офицеру, который собирался уходить.
– А значит, мы оба одновременно уходим, – шепнул Книпхузен, салютуя Наталье, – и не оборачивайтесь, – добавил он. – Вы знаете повесть об Орфее и Эвридике… кто не хочет потерять возлюбленной, не должен на неё оглядываться. Это, как и все мудрые сказки, символичная история. Слишком оглядываясь – теряют, притворившись равнодушным – раздражают и привязываются… Но ты не знаешь этих истин, очень ординарных; веришь, что любовь, как магнит, который сам собой притягивает. Ты забываешь, что самый сильный магнит не схватывает стружку и клоков… а как раз с ними ты имеешь дело…
От удачного сравнения барон сильно начал смеяться, и они вышли так из жилища генерала; в окне на них смотрело гневное личико Натальи.
– Не оглядывайся на Эвридику! – повторил Книпхузен. – И смело вперёд, рыцарь. Она сама пойдёт за тобой, а если обернёшься, она тебе фигу покажет.
Из того, что мы поведали о Наумове, читатель мог получить о нём некое представление; зная причины, легко догадаться о последствиях. Был это честный парень, немного испорченный влияниями, которые на него действовали, благороднейшие чувства и стремления в нём ещё спали, не чувствовал себя человеком, был офицером с маленькой предрасположенностью к повседневному либерализму, который его излишне не возвышал. Очень быть может, что переселение в полк немного задержало в нём более свободные стремления, какие он сначала показывал в корпусе, быть может, что несчастная любовь к женщине, в глазах которой московский свет казался идеалом, также на него влияли. Наумов выезжал, грустя по любимой и проклиная барона, которого оставлял с ней; почти ничего его теперь в Варшаве не тянуло.
Но по мере того, как он приближался к этой столице польского мученичества, которую покинул ещё ребёнком, воспоминания о которой утратил, которая казалась ему чужой, в нём пробуждались странные впечатления. Страна, околицы, люди, обычай, физиогномика, язык – всё как бы в утреннем сне напоминало виденное некогда, как бы памятки из лучшей жизни! Он чувствовал, что не приезжает сюда, а возвращается, понял наконец, что является родиной… когда сердце забилось сильней и слёзы брызнули из его глаз, а образ давно забытой матери на фоне этой страны выступил живой, выросший, великий!
Часто песнь пастуха, которой он не понимал, одним своим грустным звучанием доводила его почти до слёз… сердце билось всё быстрее, а туманное воспоминание детских лет выступало всё живее, всё выразительней, и волновало душу.
Всё, что он оставил за собой, вплоть до Натальи Алексеевны, казалось ему чужим миром; там был он ассимилировавшимся изгнанником, здесь – родным ребёнком этой земли… К несчастью, язык, физионогномика, одежда делали его русским и, когда с радостью он приближался к тем неизвестным братьям, они отстранялись от него с каким-то страхом и отвращением. Это его смутило… но он утешался тем, что в Варшаве найдёт свою родню, настоящую, семью матери, сестры и брата.
Для сироты, который никогда не вкушал удовольствий жизни в семейном кругу, эта надежда сблизиться с существами, связанными с ним кровными узами, была также великим счастьем. Он воображал, что его тут примут как брата… и обещал любить их… всей неудовлетворённой жаждой любви, которой до сих пор ещё использовать не мог.
Внешнее состояние страны и города, хотя в этом он не мог дать себе ясно отчёт, столь удивительно отличалось от русской, было в нём одновременно больше цивилизации и больше простоты, больше поэзии, веры и грусти, прежде всего, больше самостоятельного характера…
На больших трактах русской пустыни жизнь похожа на ту, какую можно заметить на железных дорогах мира, построенных в Африке и в Индиях, – мешанина самого дикого варварства и плодов, принесённых чужой цивилизацией. Всё, что получило человечество, позаимствованно Россией, привезено, деспотизм и неволя не позволили стране собственными силами сделать какого-либо прогресса; а прилепленные на этом фоне изобретения, достижения странно отличаются от почвы, на которой не выросли. Несмотря на либерельные реформы, в людях на всех ступенях видна какая-то азиатская разница каст, отделяющую человека от человека, общество отчётливо разбито на слои, которые сталкиваются, не перемешиваясь. Рядом с хатой из брёвен – кирпичный дворец, с бороной из веток ходит американская сеялка, сахарная фабрика трётся об острог, полный узников, железная дорога пересекает бездорожные пущи… полно противоречий, аномалии, непонятных загадок, все языки как при Вавилонской башне, все понятия смешаны, рационализм разнуздан, фанатизм как бы первых веков, секты и неверие, а над этим всем ненасытная жажда использования, нарушая всякие права общей морали.