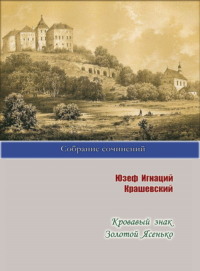Полная версия
Последние саксонцы
Откуда именно был родом пан Клеменс Толочко, некогда поручик, потом ротмистр янычар, наконец бунчучный польного литовского гетмана Сапеги, подстаросты Волковыского? Забрёл ли из Смоленска во Волковыск, или из Волковыского в Смоленское? Мнения были различные.
Верно то, что начал с малого, и что не имел почти ничего, когда его пан Пётр Завадский, приятель его, рекомендовал гетману Вишневецкому и взял под своё ротмистрство к янычарам, сперва его произведя в поручики.
И так как-то хорошо сумел найти общий язык с паном Петром Завадским, пока он был жив, с князем гетманом, пока его хватало, что добился ротмирства. Потом он уже рос собственными силами. Мужчина был красивый, как подобает янычару, крепко сложенный, сильный, а когда надевал свой янычарский наряд и прихорашивался, глаза всех его преследовали. Таким уж красивым он не был, но в лице и фигуре имел что-то привлекательное и с людьми умел обходиться так, что, слишком перед ними не унижаясь, добивался их расположения. Все ему отдавали ту справедливость, что в обществе не было более весёлого человека, чем он.
Для ссоры никогда не давал повода, скорее ни одну смягчил и дуэли не допустил, но мужества у него было хоть отбавляй. Притом, и голову имел крепкую, что называется, потому что, не будучи законником, всегда справлялся в самом заковыристом деле, не ища помощи у других.
Он, несомненно, обязан был красивой своей наружности тем, что женился на здоровой и богатой – потому что, помимо приданого, у неё было несколько добрых деревенек после родителей – на панне Коллантаевне, хорунжанке Волковыской.
Жили друг с другом счастливо, но коротко, потому что жена, отписав ему на совместную жизнь, оставив завещание, вскоре умерла. Он тогда стал уже владельцем волковыским, а как быстро там сумел войти в общество и стать любимцем шляхты… показалось бы странным, если бы не особенные качества, какими его одарил Бог.
Он рос на глазах. Вчера почти еще неизвестный, без поддержки, один как перст, не успели оглянуться, как стал им всем нужен, что без него было шагу не ступить. Кроме колигаций и установленных отношений жены своей Коллантаевны, связался он с братьями шляхтой таким узлом, точно вышел с ними из одного гнезда.
Тому, кто растёт, как на дрожжах, другие бы завидовали и искали в нём, чем бы могли унизить; тому, что гордым вовсе не был, каждого уважал, не хвалился никому, все уступали.
Не было в повете человека, который бы его не знал и не бывал у него, не приглашал к себе, и не радовался, когда тот был у него. Носили его на руках.
Казалось, он так был удовлетворен ротмистрским конвертом, что о другом титуле не старался, хоть человек был в самом рассвете сил и именно в ту пору жизни, когда людьми толкает амбиция; он не добивался никаких публичных функций. В доме у него так было чисто, богато, красиво, для гостей всегда двери и сердце открыты, но скромно и по-шляхетски.
Одного ему не хватало – это красивой и милой, как сам, хозяйки, которую ему все желали. Поначалу говорил, что от горя по дочери хорунжего никогда жениться на собирался, потом, когда его уговаривали, говорил, что готов бы, но ему не везет и нет для него счастья.
В самом деле, наступал для него возраст, когда обычно люди женятся. Искали все жену для Толочко. А не могло быть иначе, потому что Сапега, польный гетман литовский, однажды прибегал к его услугам; больше, может, сама пани гетманова, которая управляла мужем, домом и людьми двигала, потому что была женщиной, для этого созданной.
Её знала вся Корона, когда еще была с первым мужем, Любомирским. Её причисляли к красивейшим женщинам своего времени, когда их было достаточно на большом свете.
Эта красота прибавляла ей приятелей и недругов, особенно среди соперников. Она также умела ею пользоваться, так что тот, кого хотела приобрести, определённо противостоять ей не мог, и делала потом с ним, что ей нравилось. Была способной и смелой на удивление, на злобные людские языки не обращая внимания.
После смерти её первого мужа, Любомирского, ничего легче для неё не было, чем выйти замуж во второй раз.
Он оставил её молодой; красивая как ангел, богатая, она могла выбирать между претендентами. К немалому удивлению людей того времени её выбор пал на Сапегу.
Ни в чем его упрекнуть было нельзя, кроме того, что как для мужчины был слишком мягкий и легко давал собой верховодить. Но как раз для женщины это, может, было самое желанное.
Итак, выйдя за Сапегу Александра, воеводу Полоцкого, сразу овладев его умом равно, как сердцем, она уже им командовала.
Прежде чем до этого дошло, говорили, что и молодой Брюль, генерал артиллерии, и литовский стольник, урождённый Чарторыйский, потеряли из-за неё головы.
А кому она раз вскружила голову, тот с трудом освободился и протрезвел. Вместе со своим мужем, или скорее, заменяя его, начала она вести деятельную жизнь, не давая отдыха очень послушному князю.
А чем тогда была жизнь такого пана, занимающего высокую должность, находящегося в родственных отношениях с могущественными родами, которые всем заправляли в Речи Посполитой, то рассказать трудно. Об отдыхе нечего было и думать. Одними развлечениями можно было на смерть замучиться, если бы они к ним смолоду не привыкли.
Не имел такой пан отдыха ни на минуту. Вибирали их для трибуналов, на сеймы, на сеймики, в комиссии, для полюбовного суда. Мало кто не имел большого процесса, унаследованного от родителей. Также в фамильных спорах невозможно было отказаться от присутствия, помощи.
Едва прибыв из Варшавы, выпрягали коней и должны их были уже запрягать в Люблин, Петрков, Вильно или Новогродок. Также свадьбы, похороны и тысячные оказии вытягивали из дома.
Именно такой жизнью пришлось жить княгине гетмановой, которая чаще всего пребывала с мужем в замке в Высоком.
С ней там еще суеты и шума прибавилось, потому что и очарование княгини притягивало, и она рада была, когда около неё собирались и когда могла потом через своих разные интриги завязывать, и неустанно о чем-то мечтать, что-нибудь делать или переделывать.
Познакомившись с ротмистром Толочко, который был очень услужлив, внимателен и предан гетману, она похитила его под свою команду и уже из неё не выпустила.
Именно в этом году состоялось открытие Виленского Трибунала, к которому Чарторыйские со своей стороны, Радзивилл, воевода Виленский, со своей, с огромными силами и усилием готовились; поэтому как же польный гетман и гетманова могли бы остаться в стороне нейтральными? Король всевозможными способами желал предотвратить горячий конфликт двух партий. Он выслал с посредничеством на переговоры Красинского, епископа Каменицкого, и Бжозовского, каштеляна Полоцкого.
Жители Литвы также собирались либо поддержать Чарторыйских, либо держаться с Радзивиллом.
На которой стороне собирался быть гетман Сапега, это, вроде, было под сомнением. Ему подобало стать к Радзивиллу, хотя они друг другу не очень симпатизировали, особенно княгиня, которой грубость князя-воеводы не нравилась.
Веря в протекцию короля, который страстных охотников и панский запал Радзивиллов очень любил, семья князя, привыкшая к правлению в Литве, не сносила там никого наравне. Чарторыйские же, которые верили в обещанную помощь, чувствовали себя более сильными, чем все Радзивиллы с князем воеводой Пане Коханку во главе.
Ксендз-канцлер с презрением отзывался о князе Кароле и его Панде. С обеих сторон приятели носили угрозы, колкие слова и вызовы.
Сапега и его жена были в лучших отношениях с князем воеводой, который сам её не любил и грубо давал это почувствовать. Связываться с Чарторыйскими также не очень хотелось, гетманова советовала мужу стоять в стороне, ждать случая и им воспользоваться.
Оба собирались в Вильно, хотя, чтобы двинуться на Трибунал по доброй воле, на это нужно было необычное самоотречение.
Но считает ли кто-нибудь, что она больше, чем женщина, которой все служат на коленях?
У князя гетмана старых слуг, приятелей резидентов, с добавлением новых и тех, что жена принесла с собой, было много, а, несмотря на это, княгиня Магдалина встревожилась, что людей не имеют.
Часто заглядывающий в Высокое к князю гетману Толочко казался очень ловким и полезным, особенно теперь в Вильне. Дело было в том, захочет ли пан ротмистр запрячься в службу гетмановой, которая была тем известна, что надевала ошейник и обходилась деспотично.
Приманить пана Клеменса, вынудить его к пребыванию больше в Высоком, чем дома, гетмановой казалось лёгким, потому что до сих пор, что решала, ей всегда удавалось. Толочко был легко завоёван, а на будущее ему открывались широкие и ясные горизонты.
На такое основание Трибунала для худого слуги ехать было не желательно. Не считая того, что очень легко можно было получить шишки, отпугивали одни расходы. Город в ту пору, не исключая монастырей, домов мещан, вплоть до лачуг, всё было забито, дорого оплачено, недоступно. Сено и овёс для тех, кто не мог его себе доставить, стоили неаполитанские суммы. Поэтому Толочко не думал выбираться в Вильно и в голове у него это не осталось.
Но княгиня решила, что он должен был ехать с ней, и начала маневрировать, чтобы склонить его к этому. Ротмистр вовсе о том не знал. Нужно было чем-то его купить.
Одного дня после обеда румяная княгиня по своему обыкновению наполовину лежала на канапе, играя с любимой собачкой по кличке Зефир, хоть та из-за жира едва двигалась.
Толочко сидел чуть дальше.
Гетман в удобном кресле собирался к послеообеденной дремоте. Он проделывал это публично, среди ропота разговоров, смеха, хождения, что не мешало ему спать так глубоко, что его иногда из мортиры нельзя было разбудить.
Княгиня раз и другой обратилась к Толочко, а так как был постоянный шум, он едва мог расслышать и отвечать.
– Ротмистр, подойди немного.
Послушный пан Клеменс подошёл.
В эту пору жизни, хоть немолодой и неэлегантный, Толочко ещё свежо и хорошо выглядел.
– Почему вы не женитесь, сударь? – выстрелила княгиня Магдалина в него, точно из пистолета.
Ротмистр сначала смешался.
– Я был женат, княгиня, – сказал он, – я потерял в моей Хелусе верную спутницу, решил брак не возобновлять.
Гетманова рассмеялась.
– Оставили бы в покое этот загробный роман, – отозвалась она, – следует жениться, потому что это закон Божий, чтобы человек не пропадал напрасно.
Толочко на это молчал.
– Я бы, может, и рад, нелегкое это дело. За вдовца неохотно идут панны, а я бы на вдове не хотел жениться. Притом, ездить, искать, в романы пускаться – это не моё дело, а девушку мне никто в дом не привезёт.
– Если бы я знала, – ответила княгиня, – давно бы тебя поженила.
– А я, госпожа княгиня, трудный, – сказал Толочко.
– Чего требуешь от своей будущей? – спросила Гетманова.
– Разумеется, – начал ротмистр, – должна быть красивой и мне понравиться.
– Так, это разумеется, но думаю, что ты не будешь слишком разборчивым, – добавила гетманова.
– Слишком молодую не желаю, – продолжал он дальше, – но и увядшую даму не хочу.
– Зрелую девицу, – рассмеялась княгиня, – ну, наверное, и богатую?
– О, об этом я торговаться не буду, – сказал Толочко, – будет иметь что под подушкой, тем лучше, а нет, не оттолкнёт меня это.
– Ну, и семья хорошая? – спросила княгиня.
– Всё-таки должна быть из хорошего шляхетского дома, – сказал ротмистр, – до панских порогов не продвинусь, но хорошая кровь у меня много значит.
– Ну, а характер и темперамент? – добавила Сапежина в конце.
– Милостивая княгиня, – воскликнул Толочко, – а кто же может льстить себе, что отгадает женский характер или почувствует? На это нужно благословение Божие, чтобы не пасть жертвой.
Он вздохнул.
– Поэтому, – докончил он, – при стольких трудностях не мечтаю о жёнке.
Он погладил лысину, которая уже поблескивала на макушке, хотя вокруг её окружали пышные волосы.
Княгиня долго в него всматривалась.
– Знаешь что, ротмистр, – сказала она, – мы с тобой заключим соглашение, хоть бы под закладом, ты будешь нас как друг сопровождать на Трибунал в Вильно, а я за то, что прервала твой сладкий отдых, обязуюсь найти тебе жену, которая отвечает всем твоим условиям.
Толочко хотел обратить это в шутку:
– Целую ручки вашей княжеской милости, – сказал он, – но я не посмел бы такие хлопоты навязывать, когда их и без того достаточно. Думаю остаться Мальтийским Холостяком.
– Я это не разрешаю, – прервала гетманова. – Veto! Ну, совершим сделку.
Стоявший поблизости Савицкий, Лидский войский, повернулся к Толочко.
– Ты бы должен княгиню на коленях благодарить, а ты еще торгуешься. Из таких прекрасных рук можно жёнку вслепую брать.
– Милостивая княгиня, – вставил ротмистр, – даже из ваших милостивых рук боюсь брать жену. Слишком старым себя чувствую, но готов без всякой компенсации ехать на Трибунал, лишь бы вы мне приказали, а я там на что-нибудь пригодился.
– О, очень! Очень! Очень! – вставила воеводина. – Уже только езжай, остальное найдётся. Поедешь?
– Я слуга вашей княжеском милости! – ответил Толочко.
Княгиня вытянула ему руку, улыбаясь, он пришел ее поцеловать и на этом кончилось.
Приятели Толочко смеялись над ним, потому что он упрямо утверждал, что не женится.
Весь этот послеобеденный шутливый разговор он принимал за простую забаву княгини, которая любила иногда развлекаться разнообразными шутливыми историями. Тем временем назавтра он сразу услышал в разговоре, что княгиня Магдалина уже рассчитывала на его путешествие и несколько раз повторила:
– Раз ты мне, пан ротмистр, обещал, слово сдержишь.
Уже было не в чем сомневаться, он должен быть послушным, потому что ставить против себя гетманову было в сто раз хуже, чем гетмана. Насколько она была влиятельной для приятелей, так для тех, на кого имела зуб, более страшного врага, чем она, не было.
Она вовсе не разбиралась в средствах, когда хотела отомстить и дать почувствовать свою силу.
Толочко сильно забеспокоился, не давая узнать этого по себе. Во-первых, расходы были значительные, которых даже заранее он не мог рассчитать; во-вторых, он должен был потерять достаточно времени, подставляться судьям, а что его ждало в Вильне, никакая человеческая сила предвидеть не могла.
Если когда-нибудь открытие трибунала обещалось, как общая битва, то теперь, когда два сильнейших в княжестве рода должны были за него бороться. Радзивилловское войско, литовские полки гетмана, даже стоящие на границе силы императрицы должны были пойти в Вильно.
Уже готовились военные распоряжения, как перед кровавым разбирательством. Говорили кто и где должен занять позицию, а вероятность битвы предвидели все. У князя-гетмана было несколько тысяч готовых людей. Чарторыйские не своей милицией, потому что та, присоединив к ней Флеминга, не шла в сравнение с Радзивилловской, разбудили готовую силу императрицы.
В Варшаве страшно было слушать, что уже разглашали и рассказывали об этом на королевском дворе.
Гетман Сапега с женой заранее хотел прибыть, утешаясь какой-то надеждой, что может лучше сыграть жалкую роль посредника, чем ксендз-епископ Каменецкий.
Более трусливые умы умоляли, чтобы, не допуская конфликта, придумать какое-нибудь примирение, но кто знал ксендза-канцлера, графа Брюля, а прежде всего князя-воеводу, тот мало верил в перемирие.
В Вильне заранее царил ужас, словно перед нападением неприятеля, и как были такие, что летели на огонь, то другие от него убегали. Разве только что Каменец не укрепляли, но до этого было не долго.
Никто не верил, что ксендз-епископ Каменецкий, которому король поручил вести переговоры о мире, и каштелян Бжостовский, хоть первый был с особенно большими способностями, хитрый и ловкий, смогут что-нибудь сделать. В князе-воеводе Виленском играли страсти, так что его никакой разум удержать не мог.
Приятели его пили для подятия настроения и слушать не хотели.
Решили избегать столкновения с войсками императрицы, даже их, уходящих по Радзивилловским землям, кормить и давать им провиант, но Чарторыйским и их партизанам сопротивляться.
Подливал масло в огонь ксендз-епископ Виленский, князь Массальский, подобного которому польское духовенство, как люди помнили, не имело, и последователей, слава Богу, не нашёл.
Все говорили о гордости князей Массальских, которая тем меньше поражала, что их семейство было связано с запутанными делами, нехваткой денег и хватанием их где и как попало.
Кроме этой гордости и пренебрежения людьми, ксендз-епископ имел темперамент, обычаи, образ жизни, которые больше пристали распущенному вояке, чем пастырю овчарни и духовному отцу.
Предписаний церкви он вовсе не соблюдал, ни будучи верным ни духовному облачению, ни капелланским обетам. Одевался чаще всего по-граждански, по французской моде, со шпагой, как шеф полка своего имени.
Днём он забавлялся как можно более свободным режимом жизни, разрываясь между вуалями и робронами, и целыми ночами видели его за зеленым столом безумно играющим. Свои и чужие, капитульные и епископские суммы, когда попадали в его руки, уважаемы не были. Торговал имуществом, не спрашивая, а в поведении его своеволие не знало узды.
Резкий, пылкий, поочередно галантный и грубый, его ничем нельзя было обуздать, а так как ему нужны были помощники, он окружил себя такими, как сам. Достойное и благочестивое духовенство цепенело от позора и ужаса. Но более серьезным людям, когда те решались упрекать его, он отвечал бранью или хватался за шпагу.
Злобный, остроумный, циник, был он поистине чудовищным явлением, даже среди этого света, который особой суровостью обычаев не отличался.
Ксендз-епископ Массальский был родственником Радзивиллов, но разгневанный до бешенства на воеводу, всей силой духовенства, которую имел в руках, выступал против него. Радзивилла на самом деле мало это трогало, но другие оглядывались на костёл, на духовенство и проклятия, которыми оно угрожало.
Неприязнь между князем-воеводой и ксендзем-епископом дошла до той степени, что Радзивилл по десять раз на дню повторял:
– Он хочет быть Станиславом, тогда я ему Болеславом буду!
Массальский не хотел быть мучеником, но в безопасности за стеной и своей гвардией, он брызгал самыми отвратительными, грубыми угрозами против князя.
Ещё далеко было до открытия Трибунала, а Вильно уже выглядел, как осажденный. По улице день и ночь тянулись вереницы повозок, гружённых плодами, сеном, мукой, запасами кладовой и бочками с напитками.
Некоторые везли вещи, оружие, домашний инвентарь, палатки под конвоем дворских солдат с разным оружием, в самых особенных цветах. Не было более приличной усадьбы, каменицы, сарая, где бы подъезжающие люди и кони уже не разместились.
А оттого что с обеих сторон подходили враждебные друг другу силы, а с местом было трудно, рождались ссоры, драки и среди вымыслов каждую минуту раздавались выстрелы.
Рядом с дворцами, которые должны были занимать гетманы, на Антаколе у Сапегов, около кардиналии Радзивиллов стражники сохраняли некоторый порядок, но по углам распоряжался, кто хотел, и возмущался, кто мог.
Одним и другим пройти по улице, не столкнувшись, было трудно.
Из того, что можно было увидеть в самом ядре города, можно сделать вывод, что происходило за ним в предместьях и лагерях, на юрисдикции Радзивиллов Снипишков, на Антаколе, возле резиденции епископов.
Здесь ни одни ворота не отворялись в белый день без парламентёра, а прибывший должен был указывать, кем был и с чем ехал.
Даже костёлы, доступ в которые Массальский запрещал людям Радзивилла, охранялись или были закрыты.
Монашки, которых давние отношения связывали с панскими семьями, под предлогом монастырской автономии не менее свободно себя чувствовали, дав приют благотворителям и приятелям.
Толочко пани гетманова отправила в Антокол вперёд, поручив ему, чтобы заранее рассмотрел положение и собрал для неё всё, что могло его прояснить.
Ротмистр не был чужим в Вильне, знал его как каждый литвин, но он давно там не был и приезжал на короткое время, поэтому оказался как в лесу. Только везде умел справляться. Из прошлых связей осталось у него много знакомств с радзивилловскими, которые считали его своим. Мало кто из здешних держался с Чарторыйскими или Флемингом, потому что первые никогда не старались завоевать популярность, и её также не имели, а другого высмеивали как немца.
О нём ходили анекдотики, которые рисовали его как слабоумного и совсем незнакомого со страной.
Радзивиллы же, если бы даже кто-то из них донимал шляхтича, считались своими, и люди им очень симпатизировали.
Следуя по улице в Антоколе, Толочко, который из-за повреждённой ноги ехал в карете, встретился со старым знакомым, Деркачем, который ехал верхом; он некогда был его слугой, а потом из-за умения приманивать и подражать всяким голосам зверей попал в несвижское охотничье ведомство.
Толочко имел то счастье, что люди, которые когда-то имели с ним дело, сохраняли к нему хорошее расположение.
Заметив его, Деркач прибежал чуть ли не ноги целовать. Человек был немолодой, седой, некрасивый до ужаса, но ловкий, умный, каких мало.
– А ты что тут делаешь? – спросил ротмистр. – Ведь не охоту на улице устраиваешь!
– Дай Боже, чтобы ее не было, и чтобы шляхетского зверья не били, – ответил Деркач, – но кто сейчас знает, куда всё идёт? Меня отправили с важными письмами.
Толочко не мог остановиться на улице, поэтому потащил его с собой на Антокол, расспрашивая по дороге.
– Не хотел бы я быть в шкуре Чарторыйских. Что там станет с Трибуналом, этого я не знаю и не понимаю, но что на князя-канцлера устраивают большие засады, это точно.
– Все-таки не на его особу, – сказал Толочко, – потому что Радзивилл побить побьёт на дороге, но устраивать заговор на жизнь, не его дело.
– Не его, а приятелей вербовать трудно, да и невоможно узнать, что кто делает.
Потом они говорили о разных вещах, но, прибыв в Антокол, где уже нашёл для себя готовое жилье, ротмистр взялся расспрашивать Деркача.
– Ты что-то говорил о канцлере? – спросил он. – Все-таки не покушаются на его жизнь?
Деркач смешался.
– Не буду говорить о том, чего толком не знаю, а что в одно ухо мне влетело, то из другого вылетело. Только определённо то, что он может бояться за свою жизнь. Такая ярость против него.
– Не боится он этого, – сказал Толочко. – Напрасно, этим его князь не потревожит. Имеет и он силы, пожалуй, больше, чем у князя-воеводы, потому что ему в помощь идут войска императрицы и, по-видимому, в дороге.
– Поэтому ему угрожают, – сказал Деркач.
– Где же ты об этом слышал?
Ловчий смутился.
– Отец мой, – сказал он, – не вытягивайте из меня то, о чем я должен молчать, – отпарировал Деркач. – Может, это сплетни, может, очернение.
– Но кто? Что?
Сильно склоняемый Деркач, который уже брался за шапку, только тихо объяснил, что этой новостью повеяло со двора князя из Митавы, но это могли быть сплетни. Больше от него Толочко не добился.
– У нас надеются, – добавил он потихоньку, – что польный гетман даст людей, чтобы избежать осложнений.
– Я очень сомневаюсь, – сказал ротмистр, – потому что тут сейчас слепая бабка и неизвестно кому помогать. Чарторыйские в оппозиции к королю и делают ему неприятности, потому что ими уже слишком долго правит. Радзивилл только помнит о себе и своей крови. Ни с одним, ни с другим держаться до смерти – нельзя. Король выслал от себя арбитров, а те их, наверное, помирят.
– Что дай Боже, атеп, – склоняя голову, добавил Дергач, – потому что гляда на то, что происходит, человек лишается разума.
Говоря это, ловчий, которому этот допрос был не по вкусу, попрощался с бывшим паном и исчез.
Так Толочко у самого выхода получив информацию, точно его опекало Провидение; он не имел уже покоя, пока не выехал в город, чтобы больше узнать, пока не подъедет пани гетманова.
Но то, о чем он узнал от Деркача, что потом вечером удалось ему вытянуть от Бростоцкого каштеляна, которого знал, и о чем повсеместно рассказывали, взаимно страшась Трибунала, так друг другу противоречило и несогласовалось, что всё казалось ему одной сказкой.
* * *В кабинете министра Брюля, под вечер, лежал на столе огромный конверт, увешанный шнурками и печатями, которые только что посрывали. Извлечённые из него разной формы письма и бумаги в беспорядке лежали на бюро, а министр, белой рукой перебирая их, казалось, чего-то ищет, что ему было наиболее важно.
Презрительно скривленные уста, взгляд уставший и остывший, вся фигура человека утомленного, свидетельствовали о том, что полученным депешам не много доверял и не очень из-за них хотел спешить.
Иногда он поднимал взор к дверям, точно кого-то ожидал. В минуты, когда нетерпение доходило до наивысшей степени, двери медленно открылись и молодой, весьма красивый, и очень аристократичной внешности господин вошёл в покой.