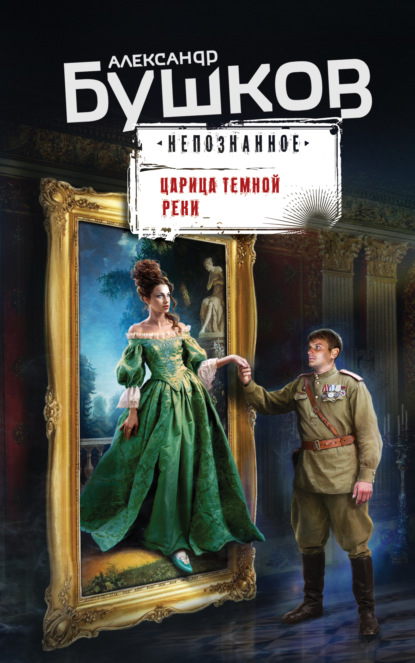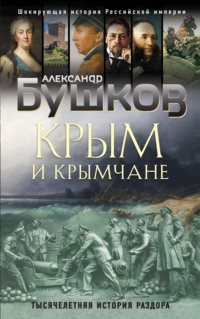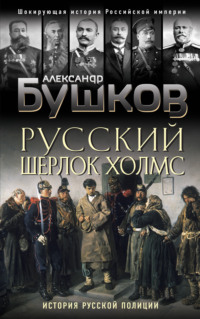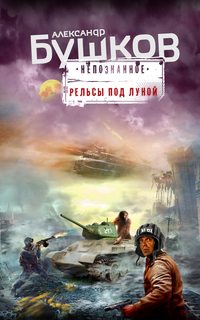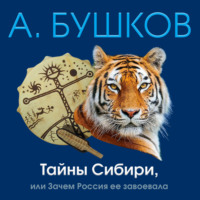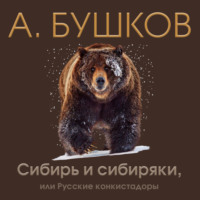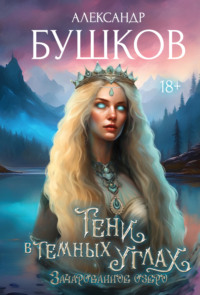Полная версия
Копья и пулеметы
Да ничего. Кроме славы триумфатора для Александра – чисто моральное удовлетворение, которое в карман не спрячешь и на хлеб не намажешь. Как и улыбки и воздушные поцелуи очаровательных парижских дам, бросавших букеты в коляску душки Александра…
Правда жизни, как ей и полагается, сказалась суровее и циничнее. Очень быстро возведенный союзниками на французский трон Людовик Восемнадцатый заключил с Англией и Австрией тайное соглашение о союзе против России. Когда Наполеон, сосланный на расположенный не так уж и далеко от французских берегов в Средиземноморье остров Эльба, тайно отплыл оттуда, высадился во Франции и начал марш на Париж, прямо-таки триумфальный (ни малейшего сопротивления не было, посланные против него войска тут же переходили на его сторону, а города встречали восторженно), Людовик бежал из Парижа в такой спешке, что оставил множество важных документов, в том числе и оригинал этого тайного соглашения. Обнаружив его, Наполеон отослал бумагу Александру – явно чтобы поиздеваться: посмотрите, мон шер, что из себя представляют ваши милые союзнички…
По воспоминаниям русского дипломата Бутякина, царь, прочитав сей документ, «покраснел от гнева, но сдержался». И предъявил его австрийскому канцлеру Меттерниху. Меттерних тоже был еще тот прожженный лис, но тут впервые в жизни не смог ничего ответить и ничего соврать – документ был стопроцентно подлинным…
Вообще-то, если Наполеон рассчитывал отсылкой этого договора ошеломить царя или хотя бы удивить, просчитался. Александр и без этого давно знал, что собой представляют «заклятые союзнички». По воспоминаниям секретаря и доверенного лица Меттерниха Герца, уже приехав в Вену на Венский конгресс (1814–1815), император Александр был более или менее в ссоре с Австрией, Англией и Францией. Герц был очевидцем событий…
Венский конгресс, по сути, был «пиром победителей». Победители восстанавливали на тронах старые династии, свергнутые Наполеоном. Прирезали себе обширные области от стран, имевших несчастье к разгрому Наполеона оставаться его союзниками (то, что они стали таковыми не добровольно, а под угрозой французских штыков, в расчет не бралось совершенно).
Россия на Венском конгрессе получила не пользу, а сплошной вред. Александр, с полным на то основанием чувствовавший себя одним из победителей и триумфаторов, видя, как лихо дербанят побежденных, запросил себе всю Польшу, к тому времени занятую русскими войсками. Остальные участники воспротивились так резко, что дело едва не дошло до новой войны – всех участников Конгресса против России. Потом это удалось как-то сгладить. Александру все-таки кинули кость – часть собственно польских территорий с Варшавой, и Александр был хитер-то хитер, но это у него безусловно не сочеталось, как показали последующие события, с умением заглядывать на два-три хода вперед. Кость оказалась не костью, а миной замедленного действия, причем многоразовой…
Екатерина в свое время вела себя гораздо умнее – при разделах Польши присоединила только территории, населенные украинцами и белорусами. Православные, они немало натерпелись от польских панов. Своих-то единокровников, польских крестьян, гордая шляхта считала «быдлом» и обращалась соответственно. Ну а православные были и вовсе «быдлом третьего сорта», их жестоко угнетали еще и по религиозным мотивам.
Мина, столь опрометчиво принятая царем в «хозяйство», первый раз взорвалась уже через пять лет после смерти Александра. Еще в конце XVIII в. Гуго Коллонтай, мыслитель и философ, литвин (проще говоря, окатоличенный белорус) любил говаривать: «Воевать поляки не умеют. Но бунтова-ать!»
Что и оказалось пророчеством. В 1831 г. в Польше полыхнул всеобщий мятеж, подавленный большими усилиями и немалой кровью. Следующий случился в 1863–1865 гг. Правда, с ним справились гораздо легче – в первую очередь из-за того, что русские власти применили простой, но эффективный метод: широко объявили, что каждый крестьянин, поймавший своего мятежного пана и сдавший его по начальству, получит немалый земельный надел из владений этого самого пана. Поскольку для крестьянина на этом свете самое главное – земля, «быдло» с превеликим удовольствием начало массовый отлов панов, от которых, хоть и братьев по крови и вере, никогда не видело ничего хорошего, кроме плохого. Власти свое обещание выполняли скрупулезно.
(По свидетельствам современников, дело не обходилось без курьезов. Крестьяне под любыми широтами – народ крайне смышленый. В некоторых местах они применили очень интересный метод охоты на панов. Прознав, где скрывается мятежник, они отправляли его ловить пару-тройку (ну, или чуть побольше) самых ловких и сильных хлопцев. А связанного пана приводили по начальству всей деревней, с честными глазами заявляя, что в облаве и поимке участвовали все до единого. Русские чиновники прекрасно эту хитрость понимали, но исправно выдавали документы на панскую землицу всем, кто ее хозяина привел, – чтобы материальный стимул работал и дальше.)
Ну а когда в России в последней трети века завелись террористы с «браунингами» и бомбами, горячие польские парни не остались в стороне. Польская социалистическая партия (тоже социал-демократы, их тогда была масса разновидностей) бросали бомбы, стреляли в русских чиновников, в первую очередь жандармов и полицейских, для пополнения партийной кассы, как их русские «братья по разуму», грабили банки и почтовые вагоны, где перевозились деньги…
А еще Александру, явно по принципу «На тебе, боже, что нам негоже», отдали Финляндию и Бессарабию, ни Англии, ни прочим участникам Венского конгресса, в общем, не нужные. Бессарабия вплоть до Февральской революции ни малейших проблем России не доставляла – там, правда, случались крестьянские бунты, но они в 1905–1907 гг. по всей России полыхали.
Зато Финляндия… Александр по доброте душевной сохранил у них и свое собственное законодательство, и абсолютно автономную от имперской полицию. Сотрудники охранных отделений действовать на территории Финляндии не могли. А потому вплоть до революции Финляндия оставалась жуткой головной болью для жандармерии и Особого отдела департамента полиции, ведавшего политическим сыском. Если в Финляндии по русской ориентировке финны задерживали русcкого революционера, пусть даже заядлого бомбиста и террориста, заработавшего в России парочку смертных приговоров, сами они его не выдавали – русские силовые структуры были обязаны посылать запрос о выдаче, чуть ли не прошение. Причем финны устанавливали определенный срок – если в течение его запрос не приходил или русские приезжали минуткой позже, финны преспокойно выпускали задержанного на все четыре стороны. Они так поступали не из-за революционности – просто-напросто когтями и зубами держались за свои «старинные вольности». И вовсе уж пикантная деталь: Ленин в Финляндии некоторое время скрывался на квартире… полицмейстера Гельсингфорса (ныне Хельсинки) Гюстава Ровио…
Союзники дружно провалили и другой проект Александра – соединенными силами выступить против Турции, жестоко угнетавшей тогда православных подданных султана: сербов, болгар и греков. Мотив на поверхности: опасались усиления русского влияния на Балканах (а такие планы у Александра были).
В общем, Венский конгресс никоим образом к пользе России не послужил – от «подарков» России в будущем случились одни серьезные неприятности.
А всего через два года в Англии вспыхнула самая натуральная русофобия, вызванная в первую очередь событиями 1813 г. Когда после сокрушительного поражения, нанесенного персам генералом Котляревским, те как-то перестали полагаться на английское золото, английские пушки и английских военных советников, с истинно восточным практицизмом видя, что толку от этого по большому счету мало. «И соседи присмирели, воевать уже не смели». Запросили мира. По Гулистанскому мирному договору того же года к России отошло почти все нынешнее Закавказье за исключением Эривани (куда входила тогда часть нынешней Армении и Нахичевани (впрочем, как мы увидим вскоре, им недолго предстояло оставаться персидскими владениями). Да, а что же Англия? А она поступила, как давно привыкла: помогая союзникам лишь деньгами и малым количеством штыков, получила, пожалуй, максимальные выгоды. Во времена многолетней войны с Наполеоном английские войска активным образом действовали разве что в Испании, где у них имелись свои интересы. Командовал, кстати, кроваво отметившийся в Индии Уэсли, теперь уже герцог Веллингтон. (Между прочим, большой гуманист: всем и каждому твердил, что дисциплина в британской армии рухнет и погибнет, если наказание плеткой-девятихвосткой будет ограничено «всего семьюдесятью пятью ударами».
В Битве народов под Лейпцигом, окончательно и сломавшей хребет Наполеону, англичане не участвовали. Правда, отметились под Ватерлоо, но тогда Наполеона практически добивали. Приобретения Англии на Венском конгрессе были ничтожно малыми по площади по сравнению с тем, что получили другие. Но это были Мальта и Ионические острова, где Британия тут же принялась обустраивать крупные морские базы. Тот, кто владел Мальтой, контролировал Западное Средиземноморье. Тот, кто владел Ионическими островами, контролировал морские пути в Турцию, на Ближний и Средний Восток (не зря именно на Ионических островах при Екатерине базировалась русская эскадра, немало навредившая туркам. Если прибавить к этому еще и Гибралтар (всего-то квадратная миля, но ключ к одноименному проливу), Средиземноморье превращалось в Британское озеро (ну а чуть погодя англичане захватили и порт, позволявший им контролировать Персидский залив).
Гулистанский мир стал для британцев, без преувеличений, ударом ниже пояса, поскольку теперь русская граница на двести пятьдесят миль приблизилась к Афганистану, без кавычек, ключу к Индии. Охвативший англичан панический ужас прорвался и на страницы газет, и в выступления парламентариев. Ну а уже в 1817 г. в Англии развернулась оголтелая антирусская кампания – теперь Россия в качестве союзника была не нужна, а вот стратегическим противником явно становилась. Повод отыскали быстро: в прошлом столетии вступались за «бедную обиженную» Турцию, у которой русские злодеи самым бесцеремонным образом «отобрали» крепость Очаков. Теперь со всем пылом и энтузиазмом защищали «бедную Польшу», якобы стенавшую под гнетом «русского медведя».
Угодно знать, как поляки «стенали» до 1831 г.? У них была своя конституция, какой в остальной Российской империи так и не имелось до ее краха. У поляков была собственная армия, автономная от русской, обмундированная на свой лад и подчинявшаяся исключительно польским генералам (и генералы, и офицеры, и солдаты этой армии в свое время воевали против России в составе Польского легиона Наполеона, но на это было высочайше повелено закрыть глаза). Наконец, русские деньги на территории царства Польского (как назывался этот оазис всех и всяческих вольностей) не ходили – полякам сохранили их прежнюю денежную систему со злотыми и грошами. Как вам такое угнетение?
Англичане не могли обо всем этом не знать. Но заняли твердую позицию: поляки стенают под русским гнетом, и точка! Нам с нашего острова виднее!
В том же 1817 г. редактор не самой последней газеты в Англии «Манчестер таймс» вещал на публике: «Мы всегда боролись за те же принципы свободы… Если бы не разделы Польши, если бы этот народ остался свободным, мы никогда бы не увидели варварские орды русских, опустошающих Европу, калмыков и казаков северного деспота, расположившихся на улицах и в парках Парижа. Каждый английский моряк готов принести свободу и помощь несчастным полякам. Через месяц наш флот потопит все русские суда во всех морях земного шара!»
Как видим, цинизм потрясающий. Со дня последнего поражения Наполеона минуло всего два года, и достопочтенному джентльмену полагалось бы знать, что «варварские орды русских» (ничуть не опустошавшие Европу) появились там не по собственному хотению пограбить, а исполняя союзнические обязательства по отношению к Англии. По той же самой причине «калмыки и казаки» (составлявшие лишь малую часть русской армии), обосновались на парижских бульварах…
Мечты мистера редактора о потоплении русского флота сбылись только через несколько десятков лет, но об этом будет отдельная глава.
Еще раньше, вернувшись из России после изгнания Наполеона, к русофобской кампании подключился наш старый знакомый сэр Роберт Вильсон, оставлявший разведку и возмечтавший о политической карьере. В печатных брошюрах он всячески чернил и Кутузова, и всю Отечественную войну, обвиняя русских в варварстве, убийстве пленных (вообще нельзя исключать, что подобные единичные случаи были, как на всех войнах). Однако «Джеймс Бонд XIX века» пошел дальше – на полном серьезе писал, что казаки вдобавок… рубили на куски несчастных французских пленных, жарили их мясо на кострах и с удовольствием уплетали под водочку. Кто-то может не поверить, но именно это Вильсон и писал. Разгневанный Александр, когда до него эти пасквили дошли, лишил Вильсона русского дворянского титула – все, что он мог сделать, но сэру Роберту это наверняка было как с гуся вода.
А в 1817 г. в Англии вышла книга «Описание военной и политической мощи России». Автор скромно не указал на обложке свою фамилию, но очень уж многие ее знали и так – сэр Роберт Вильсон. Всячески пугая англичан страшилками вроде «Россия использовала в своих целях события, от которых страдала Европа, взяв в свои руки скипетр мирового господства», Вильсон в своей книге вытащил на свет (да еще снабдил подробными картами) старую-престарую фальшивку под названием «Завещание Петра Великого». В которой Петр якобы завещал своим преемникам методично и старательно завоевать всю Европу, а там и двинуться на юг, за тем самым «скипетром мирового господства». Фальшивку эту сочинил больше полусотни лет назад один из самых знаменитых авантюристов XVIII в. француз шевалье де Бон, тот самый, что выступал то в мужской одежде, то в женском платье в облике «мадемуазель Луизы де Бон (этому колоритнейшему прохвосту посвящен увлекательный роман В. Пикуля «Пером и шпагой»). Побывав пару раз в России в царствование Елизаветы Петровны, он и припер домой этот «документ», якобы похищенный им с неимоверным риском для жизни из самых тайных русских архивов, охранявшихся отборными гвардейцами и дрессированными медведями. Причем этот Мюнхгаузен от шпионажа мало заботился порой о правдоподобии: ну кто поверит, что Петр в своем завещании (которого он так и не написал) будет именовать двинувшиеся на захват мирового господства русские войска «несметными азиатскими ордами»? И таких ляпов в труде де Бона немало…
Кавалер-девица старался зря. Никакого награждения ему не вышло. «Завещание» спровадили в архивы – то ли посчитали явным вымыслом, то ли учли текущий момент: отношения Франции и России были тогда не такими скверными, чтобы портить их публикацией подобных «документов». В самом конце XVIII в. шум вокруг «Завещания» пытались поднять два польских эмигранта, но политический момент опять оказался неподходящим.
И только в 1805 г. о «Завещании» вспомнил Наполеон, поднаторевший в информационной войне – это понятие тогда называлось иначе (если вообще называлось), но было известно еще с XVI в., с Ливонской войны. По заказу императора знаменитый историк Лезюр быстренько накропал обширный труд, где на примере «Завещания» опять-таки доказывал, что зловредные русские не успокоятся, пока не завоюют весь мир, – а значит, все цивилизованное человечество должно сплотиться для отпора зловещим проискам. Примкнувшие к Лезюру двое коллег рангом поменьше, поддержавшие его собственными опусами, в кулуарах говорили откровенно: все, конечно, понимают, что «Завещание» – бред собачий, но очень уж идеально подходит для политической пропаганды, так что приходится сочинять черт-те что…
Впоследствии «Завещание» еще не раз всплывало в разные периоды – причем его текст то и дело менялся в соответствии с требованиями текущего политического момента, при этом никто не сличал старые и новые тексты: и так сойдет. В «персидском» варианте, во время Первой мировой трудами немцев появившемся в персидских газетах), оно оказалось написанным в исконно восточном стиле, с цветистостями, красивостями и оборотами, русским отнюдь не свойственными. Последний раз его использовали спецы в министерстве пропаганды Геббельса…
В Англии творение Вильсона имело большой успех, выдержав за короткое время пять переизданий. Уже не скрывавший своего авторства Вильсон на волне популярности проскользнул-таки в палату общин. Однако должен заметить с нескрываемым злорадством: насколько удачной была шпионская карьера Вильсона, настолько провальной оказалась парламентская. Очень быстро он угодил в число «заднескамеечников», на парламентской ниве ничегошеньки не добился, абсолютно ничем себя в политике на проявил и умер в 1849 г. всеми забытым стариком. Самое интересное, что о нем стараются не вспоминать и в Англии – очень уж одиозная была фигура. Фундаментальная «Британская энциклопедия», уделившая внимание гораздо менее известным персонам, о Вильсоне молчит, как и не было такого. Вообще официальная британская историография отзывается о нем очень скупо: да, был такой генерал, мятеж в Ирландии подавлял, во время Наполеоновских войн много стран объездил… Шумной посмертной славы, о которой наверняка мечтал втихомолку сэр Роберт, не получилось. Но его книга вкупе с творениями подобных ему русофобов еще долго продолжала отравлять умы…
Особого размаха эта антирусская пропаганда тогда не получила – власти постарались мягонько спустить ее на тормозах. Времена все же стояли неподходящие – Россия оставалась союзником Англии, в том числе и по так называемому «Священному союзу» – союзу монархов Европы, объединившихся, чтобы, если возникнет такая надобность, противостоять любым революционным движениям в Европе, сохранить прежний монархический уклад. Это позже, после смерти Александра Первого, Священный союз распался, а там наступили иные времена, иной стала политика Англии…
Однако там, где хранили молчание дипломаты, газеты и авторы сенсационных книг, за кулисами, не привлекая к себе внимания, действовала разведка – как оно было во все времена. Большая Игра только набирала размах, но о ней чуть позже.
Пожарища нового века
А сейчас мы обстоятельно и подробно поговорим о мятежах, бунтах и просто массовых демонстрациях, без всякого преувеличения, буквально сотрясавших Англию несколько десятилетий первой половины XIX в. Это не я придумал этакий «ужастик», ничего общего не имеющий с пресловутой «англофобией». Вот что пишет английский историк Ч. Поулсен, большой знаток английских мятежей, в книге, так им и названной: «Английские мятежи»: «Первые 30 лет XIX века стали, пожалуй, наиболее бурными и беспокойными во всей ее (Англии. – А.Б.) истории». Давайте посмотрим…
1. Король-невидимка и другие
Те бунты английских ткачей против новомодных фабрик конца XVIII в., о которых я писал в предыдущей книге, были единичными, разобщенными выступлениями, власти их легко подавили, где силой, где кое-какими денежными подачками. И успокоились. «Вся Англия казалась нам пустой и гладкой, как эта придорожная земля». А потом оказалось, что спокойствия хватило всего-то на десять с небольшим лет.
Победа над Наполеоном принесла немало благ элите: финансовым, промышленным и торговым кругам, а также открыла пути к расширению Британской империи, не имевшей больше противника, способного этому препятствовать. Простому народу, как частенько бывает, досталась лишь дырка от английского бублика. Точнее, пончика (бубликов в Англии не было). Наоборот, для него наступило даже ухудшение. И в первую очередь ткачам-надомникам. Их понедельная плата из-за широкого распространения машин регулярно и резко снижалась: в 1795 г. – 33 шиллинга и 14 пенсов, в 1815-м – 14 шиллингов, в 1829–1834 гг. – 5 шиллингов и 6 пенсов, Прожить на это было решительно невозможно – плата таковая располагалась гораздо ниже прожиточного минимума. Люди стали умирать. По данным ничуть не левого видного британского историка Э. Хобсбаума, от голода умерли 500 000 ткачей (и это не в далекой Индии, а в цивилизованной Англии).
Рабочий класс стал понемногу проникаться классовым самосознанием – сознавать себя единым целым, с общими целями и задачами. Антикоммунистов просят брезгливо не морщиться при слове «класс». Его употребляли не одни коммунисты. В той же Англии слово «класс» практически употреблялось вплоть до относительно недавнего времени: «высшие классы», «низшие классы»; исчезло оно только с укреплением политкорректности и толерантности (которые порой буквально насаждали силком, как картошку при Екатерине или кукурузу на широте Архангельска при Хрущеве). Но и сегодня ничуть не левые историки, в том числе и английские, часто употребляют этот термин – «рабочий класс».
(Вот, кстати, несколько слов об антикоммунизме. Кто-то из крупных «прозревших» диссидентов, кажется, А. Зиновьев, хотя точно я не уверен, сказал примечательную фразу: «Хуже коммунистов могут быть только антикоммунисты». Естественно, имелись в виду антикоммунисты-радикалы. Лично моя антикоммунистическая позиция полностью совпадает с позицией Станислава Лема. Великий польский фантаст и философ ее в свое время высказал предельно четко. Он сказал: да, я антикоммунист, но это выражается исключительно в том, что я не разделяю идей коммунистов, но бороться против них в какой бы то ни было форме решительно не собираюсь.)
Так вот, в начале XIX в. молодой рабочий класс не имел ни своих представителей в парламенте, способных отстаивать его интересы, ни права создавать какие бы то ни было союзы – зачатки профсоюзов более позднего времени. А жилось ему крайне тяжело: нищенская зарплата при безудержном росте цен, особенно на продукты, рост налогов, повышение «подорожных пошлин» с каждого едущего или идущего по большой дороге, продолжавшееся «огораживание», разгул «вербовщиков» и прочие «прелести» крепнущего капитализма.
Рабочие стали организовываться. Правда, первое время они пережили своего рода идеалистический период: как раньше мятежники-крестьяне свято верили в «доброго короля, от которого злые советники скрывают правду», так и рабочие теперь были убеждены, что смогут улучшить свое прямо-таки отчаянное положение посредством массовых петиций, в основном в парламент.
Терпение лопнуло в 1811 г., когда парламент в очередной раз отверг очередную петицию, которую подписали 75 000 ткачей. Причем требования были самыми скромными – всего-то поднять минимальную заработную плату выше «уровня нищеты», причем не так уж и намного. Однако господа из парламента и на это не согласились. Тогда рабочие-ткачи решили от словесных просьб перейти к самым решительным действиям – разрушению машин. Предприятие это было исторически обречено – никому, нигде и никогда не удавалось такими мерами остановить технический прогресс (за исключением одного-единственного случая, о котором я расскажу чуть позже – причем осуществили это не рабочие, а как раз их антагонисты, крупные предприниматели. Ну и полпотовцам в Камбодже-Кампучии удалось проделать то же самое, но хватило их ненадолго).
Началось все в графстве Ноттингемпшир, знаменитом не только тем, что именно там шериф долго и безуспешно гонялся (что известно только по легендам и балладам) за благородным разбойником Робином Гудом. Ноттингем был известен еще и тем, что именно там в 1799 г. местные ткачи несколько дней устраивали крупные беспорядки, жгли дома богатых фабрикантов и крушили станки на их фабриках. Остановить их удалось – редкий случай в истории Англии – не вооруженной силой, а тем, что перепуганные фабриканты, понимая, что это может продолжаться долго, согласились повысить заработную плату и улучшить условия труда.
Теперь в Ноттингеме опять полыхнуло. Застрельщиками стали чулочники-надомники, искусные мастера. Для бурного выражения недовольства было две серьезные причины: во-первых, долгие Наполеоновские войны и континентальная блокада изрядно ударили по карману ткачей – их продукция большей частью шла на континент, на европейские рынки. Во-вторых, чулочники работали на так называемых «узких» станках, а на плодившихся, как грибы, фабриках хозяева стали все шире вводить «широкие» ткацкие рамы, дававшие материал гораздо большей ширины. По качеству продукция эта была гораздо хуже, на станках вязались уже не готовые чулки, как у надомников, а полуфабрикаты, которые потом сшивались, были непрочными и часто рвались по швам. Однако, с точки зрения фабрикантов, именно такая продукция обладала целым рядом достоинств: она была гораздо дешевле и хорошо расходилась на внутреннем рынке среди народа небогатого. Кроме того, работа на «широких» рамах уже не требовала такой высокой квалификации, как у надомников, а значит, можно было нанимать людей прямо с улицы и, соответственно, платить им меньше. И наконец, с расширением производства гораздо меньше можно платить надомникам. Одним словом, всем было плохо, одним фабрикантам хорошо.