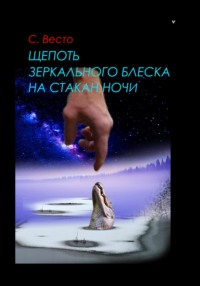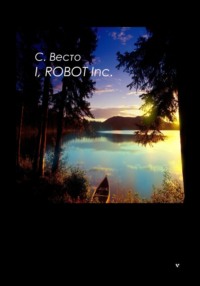Полная версия
Сумерки эндемиков
Так мы сидели, дыша свежим воздухом, слушая и не слушая дежурный треп вахтовиков, оба не вполне соответствуя вечеру, оба не совсем еще в своей тарелке, я – болея и отдыхая душой, сосед – всерьез обеспокоившись сегодня за жизнь сотрудников и сокровищницу научного потенциала планеты перед лицом нависшей со стороны дикого мира угрозы. Сидя, если сказать честно, сейчас больше как на иголках, – он всегда как-то особенно чувствительно реагировал на сообщения, подобные сегодняшнему. И вот тогда у нас в самый неподходящий момент на полянке без всякого предупреждения объявилась местная достопримечательность, Батут со своими бандитами. К настоящему времени уже половина экспериментальной станции голосемянников была знакома с ним лично, а вторая половина требовала принятия жестких мер.
Батут, некая неуправляемая помесь тяжелого и легкого, трудно передаваемое сочетание лоснящейся от блеска пантеры и ушастой гиены, невыносимо широкоскулый, черный, как полночь, в своей обычной манере без всякого предисловия неслышно возник позади соседа, сидевшего спиной к зарослям, неожиданно накрывая его и обнимая всеми своими килограммами, тиская лапами, щекоча паутиной щетины и приникая зубами к затылку. И сосед едва не лишился рассудка. Сбросив с себя лапы, на глазах теряя привычную пигментацию лица, он открытым текстом стал ставить в известность, насколько сейчас такое поведение неуместно.
Он ставил в известность так подробно, размахивая свободной рукой, что его поняли даже конденсаторы магменной электроцентрали. Покойно сложив в струнку большущие лапы, Батут благосклонно жмурился. Он наслаждался звуками родного голоса. Его бандиты тоже держались, как у себя дома, один бродил поодаль тенью из угла в угол, каждый раз выжидательно разворачиваясь в нашу сторону низко подвешенной мордой, чтобы быть в курсе событий, другой лежал, флегматично разглядывая новые лица. На таком расстоянии я видел его первый раз.
Меня, кстати, всегда занимало, насколько тяжелыми и грузными могли казаться сородичи Батута, спускаясь с деревьев на землю. Где-нибудь в каньонах Рыжего До они выглядели утомленными узниками сытого покоя, непропорционально массивными в отдельно взятых частях тела, упрямыми и хронически мрачными – до тех пор, пока они не переходили на бег. Вот тогда все сразу вставало на свои места. Вид мато даже среди кошек был знаменит умением оставаться незаметным, пока не становилось слишком поздно. Он даже мог быть заметным, все равно оказываясь рядом не тогда и не там, где по логике вещей его следовало ждать.
Честно говоря, я и половины сказанного в этот вечер не решился бы произнести в присутствии Батута. Сосед же видел всё однозначно, совершенно точно зная, что за ту пару месяцев, что сосед имел удовольствие занимать свой коттедж, все вокруг самым недвусмысленным образом успело проникнуться присутствием человека, фактически являясь четко помеченной феромонами чужой территорией – со всеми проистекающими из такого обстоятельства последствиями. Притом сосед был уверен, что и Батут все это хорошо знал. Я со своей стороны подозревал, что все обстояло именно так. Я сказал бы от себя иначе: Батут хорошо знал то, что сосед это знает. Единственное, чего не знал сосед, что Батуту было наплевать. Я сам как-то однажды рано поутру, застигнутый в шезлонге соседа, был невольным свидетелем сцены, как вездесущего детергента, накануне разбомбившего со своими ухоемами курятник, сосед за уши и мохнатые щеки пытался вернуть на место преступления, а тот упорно прикидывался хорьком, не даваясь, делая вид, что оказался тут совершенно случайно, и они ходили так по орбите вокруг коттеджа, шумно дыша, кашляя, огрызаясь и пинаясь, пока Батут не утащил соседа в кусты. Голоса голограмм и раньше привлекали жителей леса, и инцидент явно был не последним.

Еще до появления здесь сосед выхаживал его котенком в числе нескольких братьев, мать которых куда-то ушла и, как здесь часто случается, больше не вернулась. По его словам, сосед вряд ли бы решился на такое, если бы своими глазами не видел ее, вбитую в землю парой провалившихся камней – обычной уловкой местных парапитеков. Эксперимент, можно сказать, удался. Протокол предписывал в таких случаях строгую процедуру подготовки будущих репатриантов к естественным местам обитания, но утомительно подвижных инсургентов он не интересовал. И это было проблемой. Без нужной подготовки после столкновения с естественной средой обитания воспитанник погибал очень скоро. Одной диеты и информационно обогащенной среды было явно мало, и сосед отложил все остальные дела. Его записи мато, решающих задачи на экстраполяцию, составили единственную известную программу исследований способности мато к принятию самостоятельных решений.
Они не спали рядом с человеком, они не ели с рук и они не получали еду готовой. И вроде бы все складывалось благополучно, подросшие и возмужавшие мато в свое время ушли, и больше их никто не видел. И только не наладилось что-то с ничем абсолютно до того не выделявшимся среди других Батутом.
Батут нисколько не огорчился отсутствием единомышленников, благоразумно решив, что солнце везде светит одинаково, прекрасно изучил повадки людей и теперь ведрами хлестал крайне дефицитное в наших краях обогащенное молоко. Батута можно было встретить не часто, но всегда в самом неподходящем месте. Его морда, помятая со сна, стала эмблемой неприятностей. Я предпочитал с ним не связываться.
Человек сам по себе его не интересовал. Его интересовали в этом мире только две вещи: крепкий здоровый отдых в тени и спелые яблоки – круглые, крупные, с наглядно обозначенными по меридианам прожилками, удушливо пахнущие, сочные и чтоб они хрустели.
Яблоки, понятно, на Конгони в естественном виде не росли, поэтому он вечно отирался где-нибудь поблизости от экспериментальной станции голосемянников. Однажды там прямо при мне в административный бокс вся в слезах прибежала молоденькая младшая научная сотрудница (та, что уж из совсем младшеньких). От нее разило таким отчаяньем, что поначалу нельзя было добиться ничего, она только всхлипывала, указывая пальчиком на бронированную дверь аварийного погружения, потом, не переставая всхлипывать, выбежала наружу, и мы, все кто там был, за ней тоже – кто-то по пути на всякий случай задействовал центральную систему периферийной защиты.
В дальнем конце одного из многочисленных открытых вольеров с произраставшими там агрокультурами, за зарослями и завесями не то заградительных, не то маскирующих сетей младшая научная сотрудница уже сидела на корточках, горестно склонясь, водя перед собой ладошкой по земле, робко поросшей невзрачной сорной травкой и заботливо помеченной кое-где цветными флажками. Как стало ясно из сбивчивых объяснений, здесь призвана была произрастать чрезвычайно капризная поросль-гибрид типа симбиотической ассоциации, над которой бились общими усилиями три года и которая наконец-то вроде бы дала о себе знать жизнеспособными спорами. И даже не капризная поросль-гибрид здесь должна была произрастать – наполовину готовая диссертация, с далеко идущей перспективой и просто смысл всей научно-исследовательской жизни убитого горем сотрудника.
Посидев тоже на корточках, поводив ладонью по земле с отчетливыми следами обширных пролежней самой свежей консистенции, руководитель всего проекта, массивный, как наливной танкер, мужчина с обожженным лицом поднялся и решительно зашагал обратно, к боксам административной части, по пятам преследуемый сотрудниками в строгом белом и в строгом защитно–зеленом. Вскоре все вернулись тем же порядком: длинными шагами шагавший руководитель проекта впереди, остальные сзади, толкаясь и наступая на пятки. Теперь научный состав сопровождал новое лицо, младшего лаборанта.
Окружив злосчастный надел, кое-кто немедленно уселся на корточки, остальные склонились, нетерпеливо раздвигая руками загораживающие головы, наблюдая, как лаборант быстро бегает пальцами по цветным проводкам и заглядывает в торчащие нашлепки. Все молчали.
«Лежит… – дрожащим голосом сообщила сотрудница, зажимая тонкий носик двумя перламутровыми пальчиками. – Он лежит… Я ему говорю: у нас не лежат здесь, пошел отсюда, иди туда лежать, здесь не лежат… Он лежит…»
На тщательнейшим образом просеянной, унавоженной и взрыхленной почве невооруженным глазом было видно, что здесь действительно лежали: раскинувшись привычно, широко, отдав отдыху всего себя целиком, удобно и явно долго. Все знали одно бриллиантовое правило Батута: отдых должен быть продолжительным.
Я прямо тогда же сразу едва ли не во всех возможных подробностях представил себе, как все это происходило: вот научная сотрудница, онемелая от предчувствий, осторожно опускается на корточки, не сводя круглых от ужаса глаз с разлегшегося в тени Батута, наглое выражение морды которого уже успело стать притчей, шепча: «Котик, брысь… кыш… иди отсюда, у нас нельзя здесь лежать…» – и тыча своим перламутровым пальчиком в мускулистый атласно поблескивающий подшерстком бок мерзавца. А мерзавец, сладко зевая, изредка поправляя затылком и мордой землю, находя то оптимальное положение, когда бы больше не возникало необходимости поправлять, откидывает голову назад, чтобы посмотреть, кто тут к нам сегодня пришел, невзначай выставляя на свет весь набор влажных полированных зубьев, – неспешно, умиротворенно и в целом приветливо.
Наверное, что-то такое тоже сейчас прошло перед глазами руководителя проекта. «Так… – мрачнее тучи вздохнул он, поднимаясь. – Вы что же, к совести тут его взывали?»
«А что я, по-вашему, должна была делать, – ответила сотрудница довольно резонно. – Вытаскивать за ноги и бить морду?»
Все, как на проводах в последний путь, с сочувствием смотрели на несчастный свежевскопанный надел.
Я тогда подумал, что если бы спросили меня, на мой взгляд, в данном (в данном) случае Батут, несмотря на свою известную натуру, действовал вовсе не по наитию и без всякой задней мысли. С какой стати он должен лежать где-то еще, когда тут полно тенистых мест. Другое дело, что, по мнению лаборатории, ареал агрорариума не располагал тут к какому бы то ни было лежанию вообще, с чем Батут мог бы решительно не согласиться. Это была не первая диссертация, к которой прислонился Батут. Как он сюда попал, еще предстояло выяснить.
«Теперь она не выйдет, – дрожащим голосом прошептала сотрудница. – Я ее знаю…»
«Ага?! – закричал нетерпеливо кто-то в белом, обернувшись ко всем сразу и торжествующе окидывая взором лица. – Ага?! Я что вам говорил!.. Я говорил вам, что он умеет по заборам перебираться! Что ему ваши сети и висюльки?..»
Все загалдели было разом, но тут же притихли озадаченно, а младший лаборант, тот, кого научный состав сопровождал к месту трагедии, перестав бегать руками по проводкам и трогать, устало сжал двумя пальцами переносицу, закрыв глаза, то ли собираясь с мыслями, то ли подбирая нужные и доступные всем слова. Затем он отнял пальцы от глаз.
«Геллочка, – холодно произнес он. – Я что вам говорил насчет палиноморфем-сектора?»
«Что вы мне говорили насчет сектора?» – отозвалась младшая научная сотрудница враждебно, не переставая убирать пальцами влагу со щек.
«Вон там ваш споронос, – сказал лаборант, ткнув рукой куда-то в другой конец лабораторного пространства с насаждениями, сетями и загонами. – Идите туда сидеть и орошать».
Геллочка, повернув голову, с минуту рассеянно смотрела туда, потирая щеку, потом убежала, быстро набирая скорость и ловко лавируя между раструбами и турникетами. После чего до всех донеслись визг и крики, загнавшие, надо думать, споронос в состояние депрессии на сезон вперед.
Все опять загалдели было, заулыбались, но тут прибежал еще лаборант, уже старший, в сопровождении администратора станции. Младший лаборант сидел, снова прижав пальцы к переносице и закрыв глаза. Я уже примерно знал, что будет дальше. Все сразу облегченно вздохнули, зашевелились, кашляя и заглядывая друг другу через головы, но вскоре старший лаборант предложил кому-нибудь послать, наконец, за руководителем лаборатории, когда выяснилось, чья диссертация произрастала здесь.
Перед стесненными чувствами всех причастных снова завис неотступный образ. Контрольный надел, насколько можно было судить, не содержал в себе ничего интересного. Землю, местами до неестественности гладкую, местами безжалостно вспаханную, кое-где покрывала редкая поросль молодой зеленой травки, травка походила на сорняк. Она и была сорняком, точнее, хозяином с функциями катализатора, при определенных условиях призванным задействовать и вытащить на белый свет капризный рассадник грибов. Грибы, как ожидалось, своими свойствами гипногена должны были потрясти воображение научного мира. Конечно, эксперимент всегда можно воспроизвести, даже такой тонкий, как этот. Но для того требовалось найти что-то, без чего что-то еще не имело смысла готовить в течении многих дней и еще несколько лет ожидать прибытия на орбиту дежурного грузовика с партией экстракта нужной кондиции. «…Меня вахтовик-снабженец за грудь двумя руками держал, раз десять спросил, уверен ли я, что все экстрагоны задействованы и больше ничего не понадобится», – хрипло гремел руководитель станции, ломая себе руками затылок, обнажая зубы и обращаясь взором к небесам. Пока они таким образом бились головами в грядки, демонстрируя различные степени отчаяния, я уже размышлял над тем, насколько все может однажды усложниться, дойди до Комиссии сюжет инцидента. И, посмотрев вокруг, я подумал, что мысль эта пришла одному мне. Некоторые аспекты бытия могли усложниться прежде всего для нас, если еще точнее, для меня, сотрудника обособленного коттеджа. Я не сомневался, что новость дойдет в форме надгробной речи на тему о реликтовой фауне, беспризорно разгуливающей туда и обратно через периферию кодированной внешней защиты, как к себе домой. Один вид мато неподготовленного, свежего человека мог ввести в состояние обморока. Я не пробовал даже представить, как, в каком контексте тут проходили бы слезы младших научных сотрудниц и перепаханные земельные наделы. При всем при том Батута нельзя было просто отшлепать или надавать по морде, он все-таки принадлежал к вымирающей расе черных мато, при сохранении нынешних темпов сокращения популяции им оставалось в самом лучшем случае лет сто, и через несколько лет процесс будет уже необратим: статус Независимой Культуры запрещал оказывать кому бы то ни было помощь. Таким образом, диссертация целой лаборатории об уникальности свойств уникального спороноса укрылась Батутом и приказала долго жить. Батута нигде не было видно. Батут, яблочная душа, даже не подозревал, что вымирает.

Когда длинные неподвижные тени легли на траву перед моим коттеджем и потемневшее небо согнулось под тяжестью созвездий, я взял стакан и пошел постоять перед сном у себя на пороге, приобщиться мысленно к ночной тишине. Пристроив плечо на привычное место к косяку и подняв глаза, я помимо воли придержал дыхание. Над затуманенным лесом снова висело апатичное проклятие ночи, нестерпимо яркий спутник Конгони. Их было несколько, но этому отводилось особое место. Весь в прожилках и тлевших плазматических пятнах, он выглядел, как приближение катастрофы. Ему даже дали официальное имя, но его так никто не звал, а звали только Пронус Ягуара. Несколько лун Большого Кольца выглядели бледными карликами, но эта своими приливами создавала проблемы. Названо было довольно точно. В этой ведьме в самом деле проглядывало что-то нехорошее, тяжелое, как от внимания древесной кошки. Мне всякий раз делалось не по себе, когда она застревала вот так у меня перед коттеджем, заливая все холодным светом, пялясь прямо в лицо. Нечто необъяснимое и притягательное содержалось в этом куске недоделанной эклиптики, как может быть притягательным вид отвесной пропасти, начинавшейся сразу у тебя за спиной и которую ты чувствуешь даже пятками и голым затылком. Спутник надвигался настолько близко, что его прожилки и тлевшие сине-багровым светом плазматические пятна у старожилов служили прогностиками погоды. В пределах дельт ей лучше было не попадаться на глаза.
И всякий раз, когда она у меня вот так зависала, нагнетая напряжение, то и дело чудилась мне сопровождавшая ее неразборчивая, стоявшая непрерывно в ушах, траурная музыка без начала и конца. Музыка натягивала нервы на тишину, заставляла бегать по затылку мурашки, низко держать голову и готовиться к худшему.
Я, приветствуя, загородил себя от этой страшной штуки, поднял стакан выше уровня глаз. Игравший блестками стакан, до половины заполненный темной жидкостью, брызнул прямо в лицо и во все стороны разбитым на множество частей светом. Примерно так могла выглядеть полость кишечника у шаровой молнии. Ужас.
Укладываясь спать, я глядел на звезды прямо над собой и думал, что будущее мира стало слишком определяться людьми, исходившими из какого-то космического понимания реальности, что все идет так, как идет, и значит, все в конечном счете не так уж плохо. Наверное, это очень удобно. Ты приходишь в этот мир, как приходишь в жизнь, лишь на время, и никому ничего не должен. Я всех их хорошо понимал. Но иногда, в такие дни, как этот, я их почти ненавидел. И мы тоже хороши. Тут все, кого ни возьми, чего-нибудь придерживаются, последовательно и с посезонными данными на руках. Было в этом что-то бесполезное, оцепенелое, как внимание водяных ос. Между уютом духа и свежим воздухом пролегала пропасть непростых решений. Под занавес еще одного сумасшедшего дня, помучившись сомнениями и тщательно все для себя взвесив, ясно отдавая отчет о возможных последствиях и принимая на издерганную совесть грех еще одного компромиссного решения, я сделал выбор в пользу звездного неба, отправившись спать на крышу коттеджа. Пусть они там трижды завернутся моим гамаком, мстительно подумал я.
2
При всех своих несомненных достоинствах ночной отдых на крыше имел тот недостаток, что с темнотой, ближе к последней луне, вся зеркальная поверхность моей играющей спектром крыши с рядами фотоэлементов покрывались россыпью росы, включая то, на чем я лежал. Здесь все блестело и сияло, как после дождя.
Зеркало крыши можно было, конечно, периодически сушить, но, во-первых, объема моих энергозаборников едва хватало, чтобы сектор систем обеспечения поддерживать хоть в каком-то подобии боевой готовности, предписанной здравым смыслом, а не только нашим начальством Иседе Хораки; кроме того, мне и в течении остального дня тепла хватало с избытком. Мой приученный к снегам организм во сне как-то излишне чутко реагировал на излишки теплового излучения – и потом еще нагретое стекло начинало привлекать внимание светлячков, игнорирующих даже область постоянного магнитного поля. Мой коттедж не был создан для осады. В общем, вопрос достаточно спорный, где лучше спать, – здесь или там.
Я сам давно заметил за собой эту детскую привычку избегать оставаться на ночь в замкнутом помещении. Даже когда оба стекла стен-окон были забраны в стороны, все время чего-то не хватало. Когда в коттедже принимались бродить из угла в угол сквозняки, я включал запись падающего дождя и потеплее укутывался в одеяло. Спать в изолированном от среды помещении я не мог.
Специалисты говорили, что предубеждения нашего дня против искусственных ограничений и любых скоплений людей имели вид наследственной идиосинкразии. Неприязнь к замкнутому пространству с наступлением темноты была записана в генах. Так выглядела парадоксальная реакция организма на чуждую среду.
Я полежал еще, разглядывая звезды. Весь сон куда-то ушел. После пережитых за день нагрузок организм переходил какой-то порог возбуждения и начинал гореть, делая невозможным то, в чем сейчас нуждался больше всего. Это было надолго. Хуже всего, что именно завтра нужно было встать как можно раньше и именно завтра мне нужно будет легкое, послушное тело, которому я смогу полностью доверять.
Самый сильный удар по противникам экспериментальных открытых поселений на враждебном материке был нанесен несколькими стереослайдами, обошедшими в свое время сеть всех изданий: на одном была пара сутулых, черных и мрачных карбоновых кошек, длинными языками обрабатывающие полуголого малыша в коротких штанишках. Малыш барахтался в траве, задыхаясь от щекотки. На фоне этого согласия молодая мамочка беспечно накрывала под деревьями столик. По большому счету, прием был не совсем честный. Если кошки ручные, от них трудно ждать другого. Впрочем, кому-то это нужно было сделать. Еще рассказывали, что по-настоящему оценить и понять на расстоянии такое трудно. Попросту так чувствует себя хищная особь, включенная в стаю единомышленников.
Впрочем, за новичком здесь всегда сохранялось право на пребывание в огороженных вольерах. Как и на обычные средства индивидуальной защиты «волчьи когти». Модельный ряд табельных парализаторов – вплоть до многозарядного тяжелого автоматического оружия с оптикой сенсорного наведения – еще и до сих пор пылился на складах в нераспечатанных контейнерах. Трудность состояла в том, что местная агрессивная среда редко бывает представлена одной особью. И они совсем не боятся оружия. Сочти древесная кошка, едва различимая даже при свете дня, что пришелец представляет угрозу ее миру, человеку все это может просто не успеть помочь. Поначалу все обрадовались «щупам», компактным штучкам моментального действия, парализующим зрительную мышцу. В результате нефасеточный глаз терял способность к перемещениям и постоянный сигнал от объекта переставал восприниматься. Другой эффект обрушивал на зрительный нерв воздействие, подобное кратковременному ослепляющему свету, который сменяла полная темнота. Нововведение воспринималось как панацея от неприятностей, пока не выяснилось, что «щупы» имели побочные действия по типу нарушений обратных связей и паралича соседних воспринимающих систем. Дело в том, что в условиях этой среды любое сколько-нибудь продолжительное нарушение обонятельной системы или слуха неминуемо вело к гибели. Раз наблюдавший, как зверь без конца бродит по одному месту, тычась во все деревья подряд, больше никогда инструмент с собой не брал. Здесь все старались обходиться своими силами. Контейнеры стояли нераспечатанными.
Существовал целый подотряд «не хищников-не животных-не растений», к которым вообще было непонятно, как относиться. В особо лунные ночи те выбрасывали патоген, исключительно стойкий феромон, направляющий жизненно важные процессы жертвы по патологическим путям.
В предгорьях Падающих Гор было найдено невысокое пушистое растение с мягкими голубоватыми лапчатыми иголками и крохотными шишечками, радующее глаз и приветливое, группирующееся местами целыми зарослями. Растение поразительно напоминало земное, разновидность кипарисовых.
Точнее сказать, растение до ужаса напоминало самый заурядный вид дикого можжевельника, некогда распространенного в не слишком холодных лесах и горах далекой прародины – нашей исходной планеты. Так все потом как с ума сошли: едва ли не вся Миссия в полном составе со всем обслуживающим персоналом бросилась обсаживать и обстраивать свои «отшельники» и коттеджи этим совсем неброским растением, которое и не растением оказалось вовсе, а было ближе к зоофитам. У человека, правда, патоген затрагивал больше пути психических реакций, но от этого зачастую бывает не намного легче.
Последовавшее внезапное, без каких-либо видимых причин повсеместное вымирание организма побудило даже обратиться к радикальной идее – об эволюционно сложившейся системе организмов симбиотического типа на ином, отличном от известных, принципе: тесном союзе биоединиц, принадлежащих единому пространству, но разному времени. Открытиям кто-то аплодировал стоя, кто-то угрюмо ждал продолжения. По каким-то причинам Конгони был обойден вниманием вездесущего принципа Оккама. Это влекло за собой следствия, из-за которых плохо спал не один я.
К слову, идея эта в свое время так впечатлила руководство, что ее отцам урезали свободный доступ в зоны расселения симбиота. Тем, правда, руководство не ограничилось, и позднее перед теоретиками-фундаменталистами стали сами собой закрываться двери. Теперь уже я в свою очередь аплодировал Миссии за грамотный подход к грубым реалиям дня. Проблема отделения науки от вздора как никогда остро стояла именно у нас, на Конгони.
По поводу же секторов безопасности и огороженных вольеров подотчетная ведомость с легкой укоризной (явно заготовленная для комиссии экспертов) отмечала, что «они пустуют». Они пустовали, насколько я мог вспомнить, всегда. А вот это уже было серьезно. Фактор риска всем стал смертельно необходим, как обязательный комплекс вакцинации.
Что до отдельных случаев столкновения с местной средой, всегда слишком быстрой и слишком умной, то здесь приходилось касаться весьма деликатной и болезненной темы системы ценностей. Разумных приоритетов, темы, которую не обсудишь так просто ни с кем, и обсуждать которую невозможно и не принято стало вообще. Каждый это для себя решал сам. Решал про себя, в меру отпущенного времени, вынужденный молча готовить свои стереотипы на все случаи жизни, делая это, как требовало время, – без всякого воодушевления. Разумные приоритеты, я заметил, вообще не умеют вселять воодушевления. Я действительно не знал здесь никого, кто бы сознательно стал посредником в уничтожении неповторимого мира – живого вида или подвида, которому и без того в лучшем случае остается на один вздох, еще сомневаясь, часто неподвижно глядя в глаза не задумываясь убивающей среде, оттягивая выбор до последнего и думая не столько о деле, сколько о том, как потом предстоит жить с сознанием своей правоты и убийством зверя пугающе высокой организации – почти сапиенса…