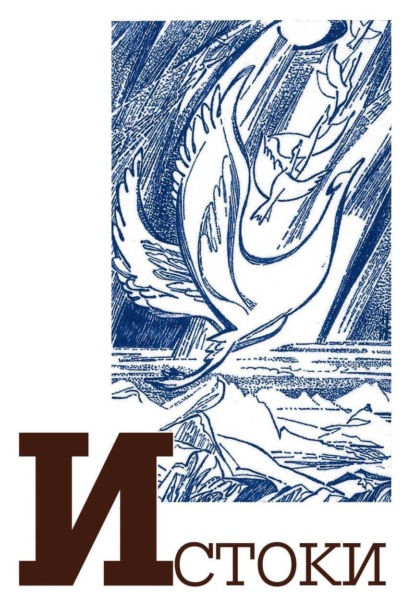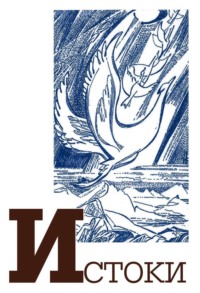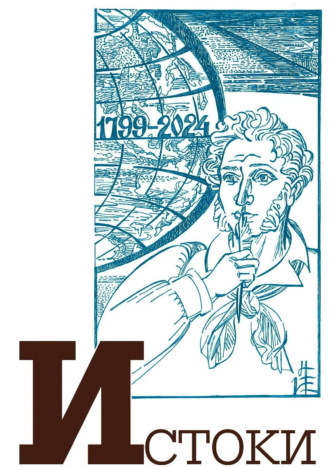
Полная версия
Альманах «Истоки». Выпуск 16
Но однажды они всё-таки вылетели. Пришлось изрядно попотеть, загружая транспортник, – цинки были запакованы в длинные деревянные ящики. Среди сопровождающих было двое офицеров, – капитан и подполковник, похожий на египтянина. Подполковник накануне явно принял лишку, на жаре его развезло, и в самолёте он вздыхал, мужественно борясь с приступами тошноты. Капитан был недоволен, хмурился. Солдаты равнодушно смотрели в редкие иллюминаторы. Железное нутро транспортника гулко гудело. Гвоздик подумал… Что? О чём он подумал? Пока самолёт набирал высоту, погружался в небо, а потом плыл в вышине, озаряемый солнцем, – не думал ни о чём, ни о ком…
Первая посадка была в Ташкенте. Выгрузили все деревянные ящики-саркофаги, перевезли их на какой-то дальний склад. Получили деньги – командировочные. Вдвоём со связистом Серёгой, – в последний день всё-таки познакомились, – они отправились в магазин, купили по бутылке тёплого лимонада и по две пачки печенья.
В двенадцать часов погрузились в новый транспортник, и начался их полёт по Союзу. Они сидели вдоль бортов, и тупо таращились в иллюминаторы, ни на мгновенье не забывая, кто в грузовом отсеке. Вернее, не кто, а что…
Всё-таки к этим обстоятельствам трудно было привыкнуть. Что там болтал баграмский гробовщик в очках? Что он имел в виду? Что смерть для него понятнее жизни?.. Кажется, так…
– Да пошёл он… Со своей философией!..
Вторая посадка – уже в Баку. На военном аэродроме оставили груз и тут же полетели дальше, в Махачкалу, здесь заночевали.
Искали долго места в гостинице. Поужинали в кафе на берегу моря. Дагестанцы, как водится, проявляли неумеренный гонор. Женщины оказались на удивление белокожими. Официантки смотрели княжнами. Впрочем, к ним, – команде «харонов», – все относились с подчёркнутой любезностью, сразу, с первого взгляда, распознавая их.
Всё-таки выглядели они диковато, что ни говори. Гвоздик посмотрел на них со стороны, выйдя покурить. Разношерстная вроде бы компания: кто в парадной форме, кто в полевой. Двое армян, калмык, украинцы, татарин… Одни моложе, другие немного постарше, но все чем-то неуловимо похожи, все одним миром мазаны, а точнее – одной войной. Гвоздик подумал, что теперь в любой толпе распознает своего. Или он ошибается?
И этот лихорадочный блеск в глазах со временем потускнеет?..
Море. Даже не верилось. В порту что-то грохотало, гудел маленький катер. Тянуло искупаться. Но в порту вода была грязной. Да и надо было ещё искать ночлег. Отыскали гостиницу прямо возле аэропорта. Купили в ресторане вина, но пили как-то неохотно, – только без конца курили, – одну за другой.
Назавтра вернулись в свой самолёт. Гробы, уложенные друг на друга вдоль бортов, стояли в грузовом отсеке. Чтобы не рассыпались, их стянули тросами. Запах проникал в пассажирский отсек. Но все, кажется, уже не обращали на него внимания. Запах тления – что, собственно, в этом такого? Вся земля набита гниющими останками. Гниют деревья, цветы, звери, птицы. Цветут, разлагаются, рассыпаются. Круговорот молекул…
Хотелось бы, конечно, чтобы с человеком всё было как-то по-другому. А как это – по-другому? Наверное, чтобы он враз бесследно исчезал…
Тяжёлый самолёт парил над Кавказскими горами. Летели в Ереван. Оба армянина волновались. Один невысокий, гибкий, с большими влажными чёрными глазами; второй – тяжёлый плечистый атлет, – рыжий, зеленоглазый, по виду годившийся первому в дяди. Арсен и Гагик… Косятся друг на друга. Скоро им придётся смотреть в глаза армянским женщинам. Сообщили им уже? Вдруг среди гор в зелени возникли крыши. Арсен взглянул в иллюминатор и мгновенно побледнел, судорожно сглотнул.
Самолёт пошёл на снижение. Заложило уши, неприятно отяжелели внутренности. Идя на посадку, лётчики всегда открывали хвостовые двери, проветривали грузовой отсек, чтобы можно было потом туда войти. И сейчас они летели над чудесным древним городом, над живым городом, захваченным движением дня. Летели, осыпая невидимым прахом головы тысяч куда-то спешащих или мирно отдыхающих горожан. Арсен не выдержал и встал. Гагик смерил его мрачным взглядом.
– Шореули… – сказал он. Арсен даже не посмотрел на него. Гвоздик немного знал парня, которого они сопровождали. Это был шофёр из третьей батареи, Ваче, – погиб в колонне с продовольствием. Вёз муку, и пуля попала ему прямо в висок. Хрупкий и печальный был этот Ваче. Но хрупкий – не значит изнеженный. Странно, но на войне Гвоздику не попадались изнеженные армяне.
Теперь всё позади. Вот благословенный Ереван, Ваче. Смрадной мумией, с червями в усах ты возвращаешься домой.
Плохо, плохо паяли ребята баграмские. И не только из-за спешки. Не только. Знали, что родители не поверят, будут вскрывать, – надо же убедиться… Говорят, случаются ошибки, – в цинке совсем не тот оказывается… Или вообще вместо тела – землица афганская… А то и ковры, женские шубки, японские магнитофоны, джинсы, наркотики, – контрабанда, случайно пришедшая не по адресу…
Синей краской на досках криво выведены фамилии, чтобы не перепутали: Иевлев, Щербаков, Власенко, Слободян, Юсупов, Мигранян, Татабеков… Вдруг там вместо трупов – несметные восточные сокровища?..
Шасси транспортника коснулись посадочной полосы. Арсен резко сел, – его придавила эта навалившаяся тяжесть замедления. Самолёт пробежал по бетонке, вздрагивая. Остановился… Ну вот и всё. Гагик надел фуражку.
В Ереване они пробыли не больше получаса. Но за это время умудрились попробовать армянского коньяку, – непонятно кто его прислал. Борттехник в замасленном комбинезоне подошёл, достал из широченных штанин две бутылки, сказал, что просили передать.
Неужели Гагик с Арсеном? Так быстро достали? Да они же вроде бы сразу укатили на грузовике?.. Неизвестно. А коньяк всем понравился. В нём играла горячая, весёлая сила.
Из Еревана взяли курс на Моздок. Оттуда – в Астрахань. Вот куда течёт река Волга. Сверху увидели зелено-жёлтые заросли, рукава и озера дельты, веер сверкающих на солнце проток… Железнодорожный мост, на левом берегу зелёные скверы, дома, причалы, посреди города на холме – астраханский кремль. Это уже Россия.
Было жарко, и от коньяка, выпитого чёрт-те-где, ещё за Большим кавказским хребтом, за тысячу километров отсюда, – ну или сколько там? – Ещё шумело в голове…
Астрахань, как Венеция, стояла в воде, – всюду мелькали каналы, мосты… Здесь Гвоздик распрощался со связистом Серёгой. Пора было обедать, их повезли в какую-то воинскую часть. Там солдаты смотрели на них, как дети, щупали хабэ, как будто солдатское обмундирование, – пусть и несколько иного покроя, – не одно и то же повсюду, от Балтики до Владивостока, от Мурманска до Кушки и Термеза. Их отвели в столовую, поставили на столы железные миски с борщом, кашей и не отходили от них, расспрашивали, как там и что. После обеда клонило в сон, но их повезли на аэродром, где ждал самолёт, – всё тот же мощный, вместительный катафалк.
Ну, а Астрахань что? Ловила рыбу, загружала баржи, слушала новости. Там, наверное, и о них что-нибудь проскальзывало: мол, воины-интернационалисты… А они, эти самые интернационалисты, были уже здесь, а вовсе не там, где «строили дороги и сажали сады». Прямо здесь вот тайком летели над страной, как воры. Как бледные тени никому не известных событий, происходящих на каменистых горных дорогах Гиндукуша, в ущелье Панджшер – и далее везде… Их самолёт тоже был только тенью, призраком. О таких рейсах не сообщалось. Да и как бы это могло звучать, на самом деле? «Чёрный тюльпан» пересёк границу СССР… Бортовые системы корабля работают нормально… Опытный экипаж… Группа сопровождающих лиц… Столько-то героев, с честью выполнивших интер…»
Мёртвых героев. Ваче Мигранян… Или Щербаков, например… Или…
Куда теперь? К другому морю, к другой реке – в Ростов-на-Дону. Мучительно хотелось курить.
…А духов выкурить можно было совсем по-другому. Совсем. Зачем так спешить? Например, дождаться корректировщиков, и гаубицы накрыли бы этот дом. Или танкистов – в дом можно было с разгона въехать на танке… Или вызвать вертушки… Ну, теперь-то что… Щербаку уже всё равно. И сержанту Лопатину. Да и вообще – всем…
Так думал Гвоздик, сидя в воздушном катафалке где-то между Астраханью и Ростовом-на-Дону
…Внизу уже донские степи? Облака, тени облаков на земле, какие-то реки… Вдруг засинела мощная жила. Так это же Дон и есть!
Нескончаемые поля. На берегах – сёла, утопающие в зелёных садах…
Перед Ростовом-на-Дону лётчики снова проветривали грузовой отсек. Привет из Баграма. Дыхание смерти на ваши крыши, в ваши окна.
Мир вашему дому…
Через час уже снова летели, кажется, в Донецк. Или сначала в Элисту? Но, возможно, в Элисту прилетели ещё до Ростова-на-Дону…
Потом садились в других городах, – посадок было много. Кто-то поначалу даже вёл маршрутный лист, но потом этот штурман высадился, – остался вместе со своим двухсотым грузом, – а продолжить, подхватить перо так никто и не удосужился: зачем это?
Кому оно надо?..
Летели и ночью. Земля внизу светилась цепочками огней. Над большими городами стояли мутные облака света. Чёрная земля казалась бездонной, безмерной. Самолёт тяжело гудел, раздвигая тьму крыльями с пульсирующими ранами, бьющими багровым светом, – как будто внутри иссечённые свинцом и осколками тела ещё кровоточили…
…Этот полёт казался нескончаемым. Поэтому Гвоздик даже немного растерялся, когда остался наконец один на аэродроме, возле длинного деревянного ящика с корявыми синими буквами «Щербаков». Самолёт полетел дальше, и Гвоздик ощутил неодолимую, свинцовую тяжесть. До сих пор он лишь наблюдал, как со своим грузом уходили другие. Теперь это предстояло сделать ему. Он покосился на ящик, и ему вдруг почудилось, что никакого Щербакова внутри нет. Возможно, Гвоздик просто обкурился, и теперь видит дурной сон. Старший сержант Лопатин… Ведь настигнет же и его когда-то воспоминание о Щербаке? И Лопатину тоже захочется, чтобы этот ящик был доверху наполнен сухим афганским песком, а Щербаков был бы жив и хитро улыбался, морща облупленный нос…
Но зачем тогда его, Гвоздика, сюда прислали? И главное, как он согласился? Как мог он согласиться? Нужно было наотрез отказаться – как наотрез отказался он лететь с Сашкой Волчковым… Неужели это его наказание за тот отказ?.. Нет, но кому-то же надо было… Или всё же так сильно захотелось побывать дома?..
Гвоздик озирался, стоя на краю взлётной полосы. Рядом безмолвно стоял дощатый уродливый саркофаг. «Щербаков».
– Может, о нём забыли? Приняли самолёт – проводили, а зачем он приземлялся, как-то запамятовали. Гвоздик закурил. Выкурил сигарету, вторую, третью… Аэродром был пуст. То есть, здесь были конечно самолёты, – два или три. Был и вертолёт. У приземистого кирпичного здания стояла машина, – правда не грузовик, – всего лишь «уазик». Но людей нигде не было видно. Низко нависало серое небо, вдалеке мрачно зеленели какие-то деревья. Ветер трепал яркий флажок на металлической мачте. Гвоздик оглядывался, и ему по-настоящему было страшно. Здесь он никого не знал, кроме Щербакова…
…Щербакова хоронил военкомат. На похоронах был сам военком, был пожилой отставник, работавший в военкомате кем-то вроде сторожа. Ещё – несколько солдат, две любопытных бабки, случайный подросток… Дело в том, что Игорь Щербаков оказался детдомовцем, и пока он был жив, никто в полку даже не знал об этом. Так что похороны прошли спокойно. Никто не вздрогнул, не заголосил, когда Щербаков ткнулся в родную могилёвскую глину. Так и должны хоронить солдат – быстро, чётко, без лишнего шума и слёз. Потому-то детдомовцы – наилучший контингент для всех рискованных государственных затей…
После похорон Щербакова он так и не поехал домой. Гвоздика неудержимо потащило дальше, – в Термез, словно что-то волокло его за шиворот. Он потом, позже, рассказывал всякую чушь про стечение каких-то туманных обстоятельств, – рассказывал и энергично тыкал большим пальцем за плечо…
В общем, покатил, – невыспавшийся, хмурый, – в Термез и там ещё с неделю проторчал, ожидая колонну. С голодухи они пошли ночью на склад, – вдвоём с таким же случайным бедолагой. Тот ужасно трусил, а Гвоздику было наплевать. Он знал, что любые охранники – люди, и когда-то бывают беспечны. Действительно, часовой вскоре устал ходить взад-вперёд под фонарем и скрылся в караулке. Тут они перебежали под стену склада, Гвоздик велел своему напарнику присесть, встал ему на плечи, выдавил стекло, забрался внутрь и отыскал ящики с консервами. Передал один ящик товарищу, вылез, а ящик они потом припрятали в степи. Консервы оказались ненавистной огнедышащей рыбой в томате, но они всё равно ходили их есть, – пока люто не затошнило от изжоги…
А вскоре пришла колонна. Его взял к себе в кабину водитель-чеченец, солдат. Его «КамАЗ» был нагружен углём.
С водителем Исой они сдружились, – тот на стоянках запросто добывал еду, – земляки у него были повсюду.
А так Гвоздик, наверное, помер бы с голоду. Почему-то русские земляками были, прямо сказать, неважнецкими. Как это у Тарковского, – в его «Андрее Рублёве»? «…Какой ты русский, морда владимирская?!..» – Гвоздик хрипло рассмеялся. И косяки Иса добрые доставал. Правда, сам никогда не курил почему-то.
Гвоздик ехал в «КамАЗе» с Исой и, вспоминая весь пройденный путь, представлял себя каким-то военным чиновником, сочиняющим реляцию высшему командованию. Он, конечно, здорово подустал, да и от чарса всё в глазах слегка двоилось. Порой ему даже становилось невыносимо смешно, что вот он так спокойно едет, жив-здоров.
Они ехали через Мазари-Шариф, Пули-Хумри, Саланг, потом вниз, сквозь Чарикарскую долину – сплошной сад с дувалами, башнями, – прямо в Баграм, где круг, наконец, замкнулся. И, конечно, Гвоздику всё это казалось странным. Он описал невероятную петлю, – в самолётах, поездах, машинах, – и возвращался.
Здесь, в Баграме, они расстались. Иса покатил с колонной дальше – в глиняный и каменный, зелёный и сине-купольный, поистине гигантский, после всех придорожных городишек, Кабул. А Гвоздик полетел на вертушке в полк. Он возвращался, размышляя о запутанных военных дорогах, и не знал, радоваться ему или плакать из-за того, что его занесло на одну из них…
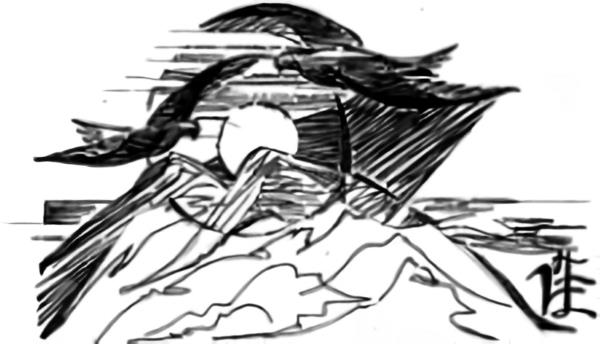
Поэзия
Евгения Славороссова
Из книги «Времена года»
Сезоны
Ах, ветра дыханье, цветов колыханьеИ свечек каштановых благоуханье.Рассветный июнь, золотые закаты,Зловещего грома глухие раскаты.А летние ливни, летящие ливни,Вонзаются в землю их острые бивни.Весною каштаны, а осенью клёныНам душу пытают листвой раскалённой.Ведь в мае крахмальном – мир сине-зелёный,А осенью пламенем алым спалённый.За грустью осенней, и горькой, и сладкой,Зима проберётся с кошачьей повадкойИ скрипочку враз ледяную настроитИ нас успокоит, и мехом укроет.Январская элегия
Сердце ноет болезненно-сладко.Нету в роще январской тепла,Как в душе моей смутной порядка.Но любовь никуда не ушла.В речке лёд, равнодушно слепящий,И, хоть верится в это с трудом,Не ушла, а царевною спящейБезмятежно лежит подо льдом.Февральская капель
Многое в жизни минута решает,Время – мудрейший и опытный знахарь.Снег ноздреватый, как тающий сахар,В чашке полудня февраль размешает.Чтобы нам не было грустно и тяжко,Солнце сверкает серебряной саблей,И разбивается первою каплейДня голубого бездонная чашка.Накануне марта
Что нас ожидаетВ лихорадке старта?То февраль рыдаетНакануне марта.Выберу дорогу,Задохнусь от бега.Смоет ли тревогуКак остатки снега?Выкрикнуть бы в поле:«Что всё это значит?»От внезапной болиЮный дождь заплачет.Больно – значит живыДуши-недотроги.И слова не лживыИ верны дороги.Фотография
Смотрит с фотографии стариннойДевочка в пальтишке с пелериной,Смотрит, как нечасто смотрят дети,Девочка в надвинутом берете.Ей судьба – идти вослед идущим.Кто она? Что ждёт её в грядущем?Девочка с мечтою неземною,Может, ты была когда-то мною?Ей в глаза в апреле солнце свети.Где она? Но кто же мне ответит?Май. Нежность
Сегодня лишь нежность у нас на уме,Прогулки, беспечные речи,Когда так волшебно белеют во тьмеКаштанов пахучие свечи.Сегодня прибоем вскипает сирень,Глаза нам туманя лилово,И майским теплом наполняется день,И нежностью каждое слово.Октябрьский дождь
Моим ли прихотям в угодуИль по другой причине, ноБог вызвал чудную погоду,Что я ждала уже давно.Небесные разверзлись хляби,Дождей отправив караван,Спецы в своём небесном штабеНаслали влажность и туман.И пусть на улицах безлюдно,Я всё же счастлива вполне:И мне любить людей нетрудноИ под дождём не грустно мне.А город сыростью пронизан,Как будто рядом океан.И капли скачут по карнизам,И день октябрьской влагой пьян.И на щеках моих не слёзы,А дождь, присущий октябрю,Ведь на дождливые прогнозыЯ положительно смотрю.Ноябрьский сон
В пору тьмы и разрушенья —В ноябре, во снеБез звонка, без разрешеньяТы пришёл ко мне.И, вселив в меня тревогу:Сплю я иль не сплю?Прошептал ты мне: «Ей-Богу,Я тебя люблю».Из книги «Роза ветров»
Азбука Крыма
Возносятся к небу так чисто и хрупкоВесёлые кличи – Алушта, Алупка!Как будто бы вскрикнул невидимый хорС восторгом – Гурзуф, с придыханьем – Мисхор.И длится минута от века до века.То птицы кричат или дети Артека?А звуки камнями срываются вниз,Осколки летят – Кореиз, Симеиз!О, воздух, сияющий в солнечном ветре.Царапают небо вершины Ай-Петри.Меж каменных рёбер родившийся крик,Зелёного моря солёный язык.Кто эти выписывал мысы и бухты —Истории древней нестёртые буквы,Кто горы и скалы рассыпав вот так,Поставил сосны восклицательный знак?Протяжная песня от века до века.Дыхание тавра и скифа, и грека,И облака пар, и Отечества дымСмешались с горячим дыханьем моим.Сигналят суда, проходящие мимо,Учу на каникулах азбуку Крыма,Машу кораблям загорелой рукой,Шепчу: «Аю-Даг» и вздыхаю: «Джанкой»…Рыбачье
Море – шёлковая скатерть,Серебрится света скань.На закате режет катерВлаги ласковую ткань.Пенит воду катер прыткий,Хоть кончается сезон…Яркий вид, как на открытке,Втиснут в тесный горизонт.Мальчик храбро ловит краба,Берег вылизан волной.О, бесценная отрада,В жизни найденная мной!Так не вечно равновесье,Так мгновенен счастья срок…Но уходит в поднебесьеБелоснежный катерок.Я прильну к морскому лону,Опущу в волну ладонь.Виноградники по склонуВверх ползут. В домах огоньЗажигают. Быстрый вечерСходит вниз. Горит звезда.Я не вечна, ты не вечен —Вечны небо и вода.Ждать удачи, жить иначе?Не уйти отсюда прочь?А над нами ветер плачет,И цикада пилит ночь.Вдруг сорвётся брань собачья,И замрёт в руке рука…И уснёт село рыбачьеПод миганье маяка.Крымская ночь
Словно говор всякой нечисти,Слышны сотни голосовМеталлических кузнечиков,Металлических сверчков.Не одна на берег выйду яТам, где пляжа полоса.Над затихшею ТавридоюТёмной ночи голоса,Марсианские, нездешние,На Земле подобных нет.Как целуемся поспешно мы,Словно гибелен рассвет.Всё укрыла ночь бездонная.Но невидима во мглеКиммерия дышит сонная.Или мы не на Земле?Не найду огня и света я…Но, прорвав кромешный мрак,Странной высится ракетоюВ небо рвущийся маяк.А кузнечики, как часики,Нити времени стригут.Мы с тобою соучастникиТайн, рождающихся тут.Морская соль
Метил печалью меня, как печатью —Чудо морское иль Божье творенье?Непостижимее страсти к зачатьюТайна рождения стихотворенья.Чёрного моря полная мера,Но прижимаюсь к берегу сиро.Море огромно, как эпос Гомера,Я ж нарушаю гармонию мира.В детстве средь буйной российской метелиСнилась мне синь за стеною зубчатой.Эллин проносит в бронзовом телеСчастье. На мне же тоски отпечаток.Море в огромной каменной чаше,Сразу пьянею к берегу выйдя.В яшмовых водах солнышко пляшет.О, Ифигения в чудной Тавриде!Ящеркой смуглой лягу на камень —Богом забытое Божье творенье,Дал мне так много своими руками,Не дал мне только умиротворенья.Море проснётся, вспыхнет, бушуя,Вздрогнет и снова размеренно дышит.Всё, что сейчас на песке напишу я,Море сотрёт. Кто ж об этом напишет?В сладости лета соли крупинка,Крупной, как слёзы, каменной соли.Тянет настойчиво к морю тропинка.Мне бы хоть каплю покоя и воли.Мне б окунуться в праздничность эту,Мне б раствориться в чистом просторе,Солнцу дать губы, волосы – ветру,Тело нагое выплеснуть в море!Коктебель
У брега, где волны берут разбегНеведомо сколько веков,Рассыпался каменный человекНа тысячи мелких кусков.Как будто однажды вздохнул истукан —И вздох разорвал ему грудь,Как будто устал и прилёг великанУ ласковых волн отдохнуть.Угрюмого камня душа взорвалась,И крик исказил его лик…Мерцает зрачок его яшмовых глаз,Сверкает, как кровь, сердолик.О, жажда на миг разорвать свою цепьИ воздух свободы вдохнуть.Раздвинуть усилием скальную крепьИ воле навстречу шагнуть —И вырваться, словно из бренных одёж,Из тягостных пут забытья,И боль сладчайшей почувствовать дрожьДо самых глубин бытия.Разрушить однажды надёжный свой дом,Что чем-то похож на тюрьму…А что бунтаря ожидает потом —То ведомо только ему.Девушка Крыма
Этот город, совсем непохожийНа московский запущенный двор.Здесь я чувствую собственной кожейМоря соль и дыхание гор.Здесь я чувствую собственным нёбомВиноградных кипение струй,И пропитанный йодом и мёдомПерсик свеж, как во сне поцелуй.Неужели вдыхала всё времяЛишь столичного воздуха дым,Не росла в Черноморском Эдеме,Что теперь называется Крым?Неужели не я на скамейкеЦеловалась средь розНе буянила в шумном семействе,В итальянском кипенье страстей,Где на кухне сияли прекрасноКабачок, баклажан, помидор,Где пропахший оливковым масломУтопал в полутьме коридор?Неужели в блаженстве и блажи,Убаюкав тоскующий ум,Не лежала на каменном пляжеМонотонный не слушала шум?Неужели под синим инжиромВ окружении нежной родниНе цвела безрассудным транжиром,Расточая минуты и дни?Но не я ли, беспечная, знала —Не воротится прошлое вновьИ не я ли перо окуналаВ шелковицы чернильную кровь?Неужели на южном вокзале,По лицу размывая тоску,Не стояла? И это не я лиТак хотела уехать в Москву?Прощание с морем
Я жить без него не смогу. Я умру!Я Чёрное море с собой заберу.Чтоб видеть в окошке своём без труда,Как в нём виноградная зреет вода,Чтоб щупальцы солнце тянуло, как спрут,Чтоб в море, как в жидкий нырнуть изумруд,А вечером – нет, не по гальке с песком —По лунной дорожке пройтись босиком.Я жить без него не смогу, я умру.Что делать мне в городе летом в жару?Что делать с душою и телом весь годВдали от любимых немыслимых вод?Прикажете мне задыхаться в тоскеОт жажды, как бешеный пёс на песке,Спешить на вокзал, где кругом толкотня —Ужель от него оторвёте меня?Я жить без него не смогу, я в волнуГорячее сердце своё зашвырну.Плыви, моё сердце, чтоб век не рваласьСолёная, кровная, вечная связь!Бабочка зимы
О, Бабочка Зимы, мохнатый махаон,Осыпал снег, взмахнув крылами, он —И сразу мир открылся белый-белый…Но помню изобилье изабеллыУ моря Чёрного. А, как меня хранилТот вечер цвета пролитых чернил.О, черноглазие хмельной округи винной,О, тёплый ливень, хлынувший лавиной.Но заметает летней ночи сныКрылом пушистым Бабочка Зимы.Как сладок запах той поры минувшей!Прожектор хищно щупал пляж уснувший.А турки за морем? О, что там снилось им?..Но Бабочка Зимы взмахнёт крылом своим,За лесом белых пальм являясь перед взором,Прильнёт к стеклу немыслимым узором.
На перекрёстках эпох
Наталья Божор
Сказание о дон Кихоте
Сервантес

К «Дон Кихоту» Сервантеса, как и к «Демону» Лермонтова, я возвращалась, чтобы понять. Не успев прочитать книгу, я открывала её вновь.
На тот алмазный трон, где столько летМарс восседал, от крови весь багровый,Взошёл Ламанчец и рукой суровойНад миром поднял стяг своих побед…Начиная писать «Дон Кихота» как пародию на рыцарские романы, Сервантес становится пленником героя.
Испанский дворянин Алонсо Кехана (идальго), не в силах переносить повседневную жизнь и, начитавшись рыцарских романов, уходит в Сказку. Им движет благородное чувство – сложить подвиги к ногам своей Дамы.
Посвящение в рыцари происходит на постоялом дворе (волшебном дворце).
Вокруг Дон Кихота сплетается сеть очарованных Лун. Вместе с неутомимым Росинантом и верным оруженосцем Санчо Пансой Рыцарь Печального Образа (Рыцарь Львов) проходит по плетёному пути. Но Дульсинея ускользает от рыцаря.