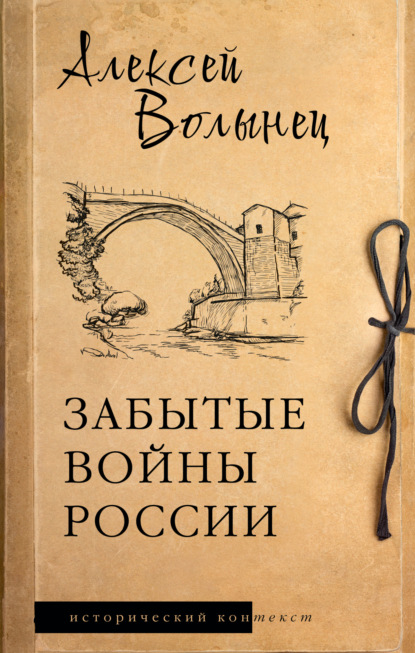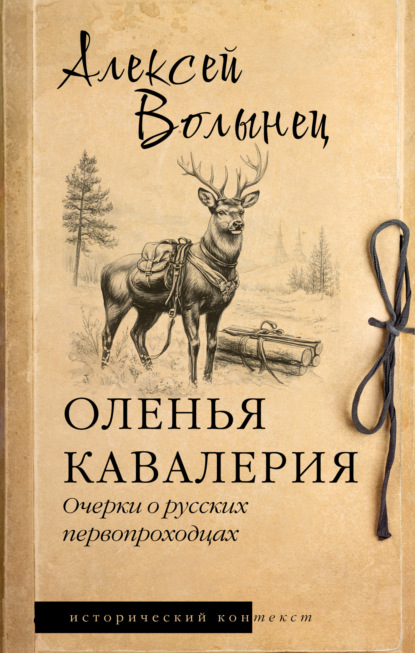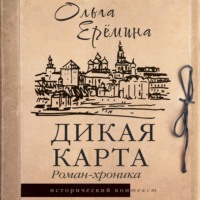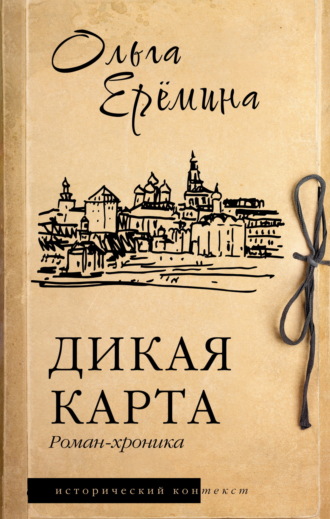
Полная версия
Дикая карта
Несколько дворян с саблями уже бежали по плотине Верхнего пруда в сторону огорода, где литва только что деловито срезала капусту. Митрий заметил, как огнём мелькнула среди грядок рыжая голова Гараньки-каменотёса – и этот туда же, да без шелома!
Но уже не до капусты стало – обида и горечь ожидания гнали на огород воинов и крестьян, зажигая в них ярость. Лязгнуло железо – скрестились клинки.
Митрий скатился по ступенькам башни, что есть духу помчался к келарским палатам, где жил Долгоруков, отворил, задыхаясь, дверь:
– Там, там! Наших бьют!
– Что?
– В капусте! Бьются!
– Кто? Кто позволил?
– Литовские люди нашу капусту воровали, мужики обиды не стерпели.
– Бей тревогу! – коротко велел воевода сыну, с помощью слуги надевая панцирь.
Звякнул всполошной колокол, набирая голос. Раздались крики сотников, ратники спешно облачались для боя, бежали к Конюшенным воротам. Стремянные седлали коней, подводили сотникам.
– Отец! – подскакал Иван Григорьич. – Брушевский со своей ротой на подмогу литве спешит. Надо ворота открывать, пропадёт Ходырев ни за грош.
– Сам виноват! Капусту пожалел!
– Так ведь еда…
– Молчи! – прикрикнул отец. – Твоё дело во главе сотни! Открыть Конюшенные ворота! Сотни Рощина и Внукова – бой!
Среди налившихся соком белых кочанов, оскальзываясь на взрыхленной земле, рубились рота Брушевского и сотни Рощина и Внукова.
В воротах, сияя панцирем, встал во главе войска сам князь-воевода.
Литва и люди Брушевского, увидев это, побежали, оставив на поле боя двух лошадей с впряжёнными в них телегами, уже нагруженными капустой. Меж гряд стонали раненые.
Сотни построились, оставив огород в тылу. Выехали из ворот телеги для раненых. Ратники бережно поднимали своих. Крестьяне спешно рубили оставшуюся капусту, подобрали с земли всё, даже изорванный лист. Наскоро выкопали хрен. Телеги въехали внутрь, сотни под взглядами изготовившихся к бою врагов, соблюдая порядок, вернулись в крепость, и ворота закрылись.
Вечером Иоасаф позвал к себе воевод – Долгорукова и Голохвастого. Сказал, пытливо глядя на них:
– Новость у меня дурная. Василий Брёхов, старшина даточный, сообщил, что Оська Селевин сбежал. Слуга монастырский. Вместе с братом Данилой они в Осташковской слободе ловлями рыбными ведали. Говорят, видели со стен, как ляхи его поимали. Или сам предался?
– Одна стерва сбежала – велика ли беда? – дёрнул плечом Алексей Голохвастый.
– У этой стервы уши есть и глаза. И язык длинный. Всё выболтает, – укоризненно произнёс игумен, с досадой покачав головой.
– Чего мы ждём? – загоревшись, спросил Голохвастый. – Лисовский ранен, о Сапеге уже несколько дён не слыхать. Нас совсем к стенам прижали. Дрова кончаются, мяса нет. Из пищи только зерна да муки вдоволь. Холода грянут – что тогда? Вылазку надо! Мочи нет без дела сидеть, пока нас хуже волка обкладывают!
– Не гони, Алексей Иваныч, – осадил Долгоруков.
– Они думают, что мы испугались. Самое время ударить! Стрельцы недовольны, что сидим без дела.
– Ну, с Богом! – решился Долгоруков. – Собирай сотников.
Вечерню в Успенском соборе служил сам архимандрит. Пели согласно, и в лицах была видна печаль и решимость. Василий Брёхов, возвышаясь над всеми на полголовы, пристально и неотрывно глядел на образ Троицы. Губы сами собой повторяли молитву.
Впереди, ближе к аналою, стояли старшины, за ними сгрудились люди, стеснились к алтарю, к свечам и образам. Ждали.
После вечерни те, кого разрядили на стены, заняли свои места – на Красной и Водяной башне, обапол ворот. Стрельцы зарядили рушницы. Сотня Ходырева, желая отомстить за погибших и раненых товарищей, стала у Конюшенных ворот. За ними – сотня Внукова.
Сам князь-воевода поднялся на Красную башню. Иван Григорьевич с двумя сотнями конных и сотней пеших изготовился у Святых.
Неожиданно тёплый день сменился мягкой ночью. Сквозь тонкую пелену облаков было видно пятно месяца.
Затрубил в темноте рог, отворились ворота, и сотня Ходырева поскакала по плотине Верхнего пруда, мимо капустного огорода, к Служней слободе. За ней – Внуков на Княжее поле, на токарню, за Конюшенный двор. Молодой князь Рощин поскакал по Московской дороге, свернув на Красную гору, к турам. Пешие устремились туда же напрямик, через низину, перебегали речку по узким мосткам.
Митрий стоял подле князя Григория Борисовича, досадуя, что не может бежать вместе с ратниками, и одновременно страшась этого. На миг словно наяву увидел он давешнюю волосатую харю, появившуюся над забралом, ту самую, в которую ткнул светочем, услышал пронзительный вопль падающего.
Затрубили трубы у ляхов и литвы, вспыхнули огни. Тьма ожила, зашевелилась, чудовищные тени заметались окрест, и месяц высунулся из облаков, чтобы взглянуть на людские распри.
За Служней слободой и на Княжьем поле всадники много шатров порушили, литву и ляхов порубили, трёх коров в монастырь пригнали. На Красной же горе, у туров, вороги успели одеться к битве. Ударили рушницы стрельцов. Здесь сеча была стремительной и яростной. Многие испили смертную чашу.
Пробудился табор Сапеги на Клементьевском поле. Послышался топот. И сотни начали возвращаться в монастырь. Казаки везли своих убитых и раненых, стрельцы – своих. Монастырские слуги и даточные люди на плаще втащили в закрывающиеся ворота Василия Брёхова, положили на солому. Он был ещё жив, но страшная рана на боку показывала, что осталось ему недолго. Рядом с ним на коленях стоял, склонив русую голову, Данила Селевин.
– Князя! Князя позовите! – прошептал Брёхов.
Подбежал Митрий:
– Князь-воевода идёт, дяденька.
– Слушай ты. За Господа нашего и Троицу смерть я принял. Скажи князю, дочь ему свою поручаю. Не оставит… Спаси, Господи!
– Тятенька, тятенька! – пала на колени перед старшиной девица, схватила за охладевающую руку, вскричала: – Господи! На кого ты меня оставил?!
Слёзы градом хлынули из её глаз.
Ворота лязгнули, затворились.
20 октября 1608 года
Страшен был Митин сон. Беспокоен, прерывист. Виделся ему Каменной ручей, где он пускал по весне кораблики, вырезанные из толстой сосновой коры. Виделась Волга, освобождённая ото льда, с множеством купецких насадов и рыбацких челнов. Стены и башни над водой. Потом видел он сестру свою Ульяну – гуляла она средь яблонь, увешанных спелыми яблоками, и звала её издалека матушка. И где-то за матерью – большой – виделся отец. Суров он был, ожесточён, говорил Митрию: пошто вору крест целовал?
Митя вскочил на лавке, озираясь кругом. В горнице никого не было. В слюдяные окошки заглядывал пасмурный день. И тут до Митрия дошла мысль, которую он незаметно для себя отодвигал вчера: Углич присягнул Тушинскому царьку! Значит, и отец его, и мать крест целовали? И Ульяна? Не может быть. Как же так? Что же теперь делать?
С улицы донеслось согласное пение: за алтарём Успенского собора хоронили защитников крепости. Панихиду служил игумен Иоасаф.
Раненых перенесли в царские палаты, часть которых освободила царевна Ксения, ныне инока Ольга.
Григорий Борисович бил ей челом, просил взять под покровительства Марию Брёхову, дочь убиенного Василия из Служней слободы. Ибо нет у неё матери, а теперь и отца, и дом их в слободе в пепел обратился. После похорон надела Мария одежду послушницы и принялась ухаживать за ранеными. Омывала им раны, кормила, переворачивала, закрывала умершим глаза.
В палатах келаря, где стоял воевода, вновь собрались сотники. Речь держал Иоасаф.
– Други мои! Тяжко стоять нам в одиночку. Видно, не дошла наша весть до столицы. Надо ещё раз попытаться до кремля добиться!
– Надо под шумок, как Оська сбежал, – сказал Алексей Голохвастый. – Ещё раз вылазку устроим.
– По Московской дороге не пройти, – проворчал сотник Внуков.
– Я про Московскую и не заикаюсь, – грубо ответил Голохвастый. – Надо мимо Служней оврагами, минуя Воздвиженское, к Воре, там чёлн взять – и на Мизиново.
– Из слуг монастырских кого послать, – рассуждал вслух задумавшийся Внуков, – они здесь каждую собаку знают.
– То-то и оно. Не только они каждую собаку, но и собака – их. Но выхода нет, – продолжал Голохвастый. – Одного слугу. Да я стрельца одного дам смышлёного. Авось проскочат.
Митрий уже не заикался о том, чтобы послали его. Знал: он нужен здесь. И сам от себя скрывал, как потрясли его слёзы Маши Брёховой.
К ночи вновь изготовились. Из калитки подле Святых ворот бросились на стан лисовчиков, рубились в ночи, не давая врагам одеться. Тем временем два лазутчика проскользнули в Служний овраг.
Сидельцы вернулись в крепость почти без потерь, прихватив с собой двух языков. Но языки оказались малосведущими пахолками – слугами-оруженосцами панов. Они знали лишь то, что у осаждавших тоже туго с кормами. Ради этого на Белоозеро Сапега отправил московитов Тимофея Битюкова и Николая Уездовского с отрядами – пройти туда стало просто через присягнувший вору Ярославль.
В палатах Иоасафа натоплено. Воеводы и старшины рассупонились, лица красные от ветра. Думали.
– Как бы не так! С кормами у Сапеги туго! Пся крев! Ради этого, само собой, на Белоозеро послать надо! Оттуда как раз к Филиппову посту рыбки привезут! – ругался Голохвастый.
– Не кипятись, воевода, – устало молвил архимандрит. – Все мы знаем, какие на Белоозере корма готовят.
Замолчали, слушая, как полуночник швыряет в окно сорванные листья.
– Два отряда Сапега за порохом послал, – веско сказал Григорий Борисович – будто бы сам себе. – Один, видать, на Белоозеро, другой – на Кириллову обитель. Стало быть, не только для пушек…
– Неужто подкоп роют? – вырвалось у Митрия. И сразу вспомнились рассказы отца, как копали под стены и башни Казани.
– Пока молчи, – строго приказал Иоасаф, опустив голову так, что белая борода прижалась к груди. – Зря людей не полоши. Посмотрим.
Пахолков-пленников Роща распорядился посадить к ручным жерновам – молоть зерно.
22 октября 1608 года
Митрий дремал у печки, наевшись в обед кулеша с говядиной, когда воевода позвал его:
– Поди проведай, что там стряслось!
Митрий выбежал под моросящий дождь и, перескакивая через лужи, потрусил к Круглой башне. На верхней её площадке уже стоял воевода Голохвастый.
– Снова празднуют! – пробормотал он, заметив Митрия. – Только вот что – не пойму. Ну, скоро сами проговорятся.
И точно: под Святыми воротами появились сапежинцы. И стало ясно: Суздаль – сам богатый древний Суздаль – и гордый Юрьев-Польской с его великокняжеским собором готовы целовать крест Тушинскому царьку.
Конец октября 1608 года
Принимать присягу в Суздаль отправился сам Лисовский. Вместе с суздальцами, желавшими или вынужденными доказать свою верность, он захватил сначала Шую, а затем и Кинешму.
В монастыре заметили отсутствие Лисовского с гусарами, но выйти из ворот было невозможно: вдоль всей восточной стены с утра до ночи двигались людишки – рыли широкий окоп. Рыть продолжили и на севере, от Глиняного оврага.
Воеводы чуяли недоброе. Однако новых вылазок пока не предпринимали – ждали ответа из Москвы. И чем дольше ждали, тем яснее становилось: ответа не будет. И помощи – тоже.
На сторону Тушинского царька уже перешли обильный монастырями Переяславль и архиепископский Ростов, тороватый Ярославль и изломанный судьбою Углич, крутоярая Кинешма и бойкая Шуя. Что-то грядёт…
Начало ноября 1608 года
Владимир, Вологда, Галич, Муром, Арзамас… Вести приходили со всех сторон. Города и веси присягали царю Димитрию, и более всего хвастались этим под стенами обители русские перемёты – бранили сидельцев, лаяли словами непотребными, восхваляли щедрость Тушинского вора. А кои города супротив вставали, от тех лишь пепел по ветру летел. Так погибли Стародуб, Вышгород, Радонеж.
В монастыре время от времени среди набившихся в крепость крестьян и богомольцев затевались разговоры – не открыть ли ворота, не покориться ли царьку Тушинскому, не спешит ведь Шуйский-царь послать подмогу, да и что там, на Москве, – есть ли тот царь? Но архимандрит наказал строго блюсти себя, шатость не оказывать, пригрозил карой небесной – и не только небесной. Шептуны смолкли.
Чашник Нифонт, которого за мощь и бесстрашие особенно слушались все крестьяне, уважали стрельцы и дворяне, выходя к деревенским таборам в тегиляе, так вещал:
– Царь на Москве – воля Господня. Ляхи – латинство, нехристи, веру православную предали. Господь велит нам за него сражаться. Господь наш – Свет истинный. Или ты славишь Свет, или станешь тьмой. Сиречь дьяволу душу предашь.
– Как славить-то? – с наивной верой спрашивали мужики.
– Пока мы в осаде – славить оружием лихим. Храбростью и верностью.
3 ноября 1608 года
Ни свет ни заря устроили воеводы малую вылазку к Верхнему пруду. По огородам Служней слободы и близ Конюшенного двора оставалась в земле морковь и репа, ещё торчала кочанами капуста.
Крестьяне с заступами и мотыгами в сопровождении дворян верхами выбежали из Конюшенных ворот, собрали в корзины всё, что осталось, втянулись назад. Запасы тщательно сочли и сдали на поварню. Все понимали: мало. Страшно мало.
Зерна-то в амбарах довольно, года на два хватит, а вот овоща – увы. Туго. Надобно разрешать узел, так жёстко затянувшийся вокруг обители. Но как, как?
5 ноября 1608 года
На Димитрия Солунского всё обительное братство молилось с особой истовостью, просило покровительства христолюбивым воинам. Иоасаф говорил: молил-де Димитрий Иванович князь воспоможествовать в битве против злокозненного Мамая на реце Непрядве. Святая Богородица с великомучеником Димитрием благодатью одарили: устояли полки Димитрия в битве, изгнали татар с русской земли. Помоги и нам, как Димитрию Ивановичу, как правнуку его князю Ивану Васильевичу, что стоял полками крепко на реце на Угре супротив Ахмата. Пронзи врагов русских своим копьём, очами не видимым, но духом чуемым.
Народу набилось так, что трудно было класть земные поклоны. Пели соборно, стройно, и далеко за пределы обители разносилось согласное пение.
Отслужив, вышел на паперть сам Иоасаф. Шитый золотом саккос, митра и панагия камнями так и сверкают, глаза горят, белая борода сияет в солнечном луче, что пробился-таки из-за туч. Рек:
– Братья и сестры! Шатость в обители нашей объявилась. Неужто мы бессильны во Христе, дабы супостатам покоряться? – Возвысил глас, обвёл взглядом и монахов, и воинство, и паству. – Кто сомневается в вере Исусовой? Тот волне подобен, ветром поднимаемой и развеваемой. Волна мы текучая али твердь духовная? Плоть распадётся, железо изоржавеет, – дух не погаснет, аки пламя. Во имя апостола Иакова, брата Господня, ополчимся на ворогов! Аминь!
Как одна, поднялись ко лбам все руки в соборе.
Митрий крестился, не замечая, как текут по щекам слёзы. Матушка, родной Углич, твердыня духа – всё слилось в единый огонь.
После молебна строились у Конюшенных ворот – князь Григорий Борисович с конными дворянами и детьми боярскими и воевода Алексей Голохвастый – тоже с конными. Первым назначено Княжее поле, где стояли заставы ротмистра Брушевского, вторым – Мишутин овраг и атаман Сума с товарищами. На башнях в готовности стояли пушкари, но пока оговорено было – не палить, чтобы в других вражьих станах, особенно у лисовчиков, не сразу проведали о вылазке, не выслали бы скорую подмогу.
Митрию князь наказал быть в воротах, принимая вестников. На вылазку не пустил.
Заскрипели тяжёлые петли – вырвался из ворот чалый конь Голохвастого. Воевода с молодцами намётом помчались через Глиняный к Мишутину оврагу, оставляя о правую руку Воловий двор. С Плотничьей башни, вынесенной на отлёт от стен, зорко следили за всадниками десятки глаз. На холме за оврагом, где виднелись валы ротмистровой заставы, вдруг заметили, всполошились, заметались.
Долгоруков уже скакал на Княжее поле мимо Верхнего и Нагорного прудов, отрезая ротмистра Ивана Брушевского от стана в Терентьевой роще. Другой отряд обходил Брушевского со стороны Конюшенного двора, не давая ему соединиться с Сумой.
Голохвастый жаждал схватки. Его истомило сидение взаперти, угнетала тревога за оставшуюся на Москве жену с детьми, тянула жилы неизвестность: когда же всё это кончится? И ядовитым червем точило понимание безнадёжности. Он хотел скакать, рубить, отсекать поднятые для удара руки и головы.
Не вышло. Люди Сумы, не успевая облачиться для боя, впопыхах седлали коней, вскакивали и мчались наугад – лишь бы подальше от вырвавшегося из монастырских ворот гневного потока. Один запнулся о кочку, упал – конь Алексея проскакал по спине поверженного, ломая хребет. Так топтали Сумину роту до Благовещенского оврага.
На Княжьем поле, на словно присыпанной порохом стерне, бился ротмистр Герасим Сума. Его паны и пахолки не успели сесть на коней. За спинами их лежало просторное поле – не убежать, не скрыться. Молодой князь Иван срубил ротмистра, ляхи один за другим падали, иные сдались.
Григорий Борисович услышал выстрелы с заставы – поляки успели пальнуть, чтобы дать знак своим, – взлетел на своём вороном коне на пригорок и остановился, оглядываясь. Окружённая четырьмя валами застава Брушевского кипела. Полуодетые, рубились ляхи, как кабаны, со всех сторон обложенные волками. Жолнёры и пахолки падали под натиском, иные бросали оружие, сдавались, а паны сгрудились в середине заставы, отбивались. Долгоруков приказал направить на них рушницы. Замерли ляхи, Брушевский, не мигая, смотрел на подъезжавшего Долгорукова, задрав голову без шапки. Потом тряхнул волосами, склонил главу. На двух руках протянул князю саблю.
Пленных погнали к воротам пешком. Воины спешно грузили на коней всё съестное, что могли увезли с собой.
Со стороны пепелища Служней слободы уже слышался топот: скакали вояки Лисовского. Монастырское войско спешно, однако соблюдая порядок, втянулось в ворота города. По молитвам все вернулись невредимыми. Митрий, помогая закрывать ворота, ликовал.
Едва успев перекусить, князь Долгоруков приказал привести Брушевского. Спрашивал терпеливо. О количестве людей. О присягнувших Тушинскому царьку городах. О том, где сейчас Сапега. О подкопе! Это было самым важным.
Ротмистр молчал, усмехаясь криво, презрительно. Углы губ его нервно подёргивались.
Князь внезапно устал, накатило безразличие. Позвал Митрия:
– Скажи страже, пусть в погреб под келарскими палатами отведут. Пытошные орудия приготовят.
Брушевский дрогнул, молвил тихо:
– Не надо пыток. Я скажу.
Вызнали: да, ведётся подкоп, и не один. А вот в которых местах – якобы сам Брушевский не знает. Потом всё же пытали, но ротмистр рта не разжал, места не указал.
Ввечеру архимандрит и весь священный собор, облачившись в праздничные одежды, отпели благодарственный молебен со звоном – славя Господа за дарованную победу.
Долгим был этот день, долгой и ночь.
Звёзды протыкали чёрный небесный свод, царапали лучами душу. Митрий-вестовой бегал по обители, скликая старшин на срочный совет. Потом замер подле дверей, слушая стук своего сердца. Представлял то, что, может быть, только в конце света бывает: взлетает на воздух башня – тысячи кирпичей, раствор, камни основания. Взлетает и рушится на землю с грохотом, треском, устрашая всех – и осаждённых, и осаждающих. Экая должна быть силища в порохе, этом сухом зернистом порошке, чтобы громаду вверх поднять! Мимо замершего вестового прошёл архимандрит Иоасаф – борода серебрилась на чёрном одеянии, взглянул в остановившиеся глаза отрока, перекрестил его. Митрий вздрогнул.
– Ты на заступника своего надейся, на воина Димитрия Солунского, ему молись, – тихо сказал Иоасаф – и прошёл в келарские покои.
Старшины и прочие люди чина воинского выслушали весть о признании Брушевского хмуро. Что делать? Смотрели на Долгорукова.
Князь, уже обдумавший новость, огладил чёрную бороду, сказал сурово:
– Копать надо. Слухи устраивать. И под башнями, и под стенами.
Иоасаф обвёл взглядом собравшихся. Свечи горели неровно, тени шевелились на стенах, и не каждого было легко разобрать.
– Влас-то Корсаков где? – спросил Иоасаф.
– Так ведь не по чину, – ответил кто-то уклончиво.
– Чин у нас сейчас един. Все за Господа стоим. Корсаков – слуга монастырский, окромя него кто из вас под Казанью с Иваном Васильевичем был? Митрий, Корсакова Власа покличь!
Митрий побежал. А в покоях все враз зашумели.
Влас взошёл, перекрестившись, поклонился на иконы, веско изрёк:
– Слухи – сделаю. Медные листы есть ли?
– Найдём, – ответил Иоасаф.
– Хорошо бы ещё ров.
– Где? – спросил Долгоруков.
– Вне города. Меж Служней слободой и стеной. Место там самое опасное, гладкое, как девичья щёчка. Задумают там подкоп рыть – в ров уткнутся. Обнаружат себя.
– Так ведь там ляхи нарыли!
– А мы близ крепости проведём.
– Людей завтра поутру разрядим, – решил было князь.
Корсаков возразил:
– Не можно нам и часа терять. Чем раньше начнём, тем вернее смерти страшной избегнем.
И совещались ещё долго, решая, как людей разрядить да кого поставить ров наружный копать.
До утра Митрий не мог заснуть, слушал дождь и слышал слова акафиста: «Радуйся, святый Димитрий, славный великомучениче и чудотворче!» Чему радоваться? Тому, что был предан смерти? Нет, тому, что нёс людям заповеди Христовы, первая из которых – «не убий». Но он же с мечом в руках, и меч тот готов поднять ради защиты людей. Ради защиты…
Чуял себя Митрий огромным, сильным: входит в бой – пушки умолкают, ляхи и литва сабли и рушницы бросают, плеча кажут.
Защищать от пришельцев… Кого? Тех, кто сам города сдаёт, присягу на верность приносит? Они же Христа предали, а их защищать? А защищать надо. Сам Димитрий на иконе со щитом. За-щита… За щитом… Укрыть… Но ведь они сами крест врагам целовали…
Путалась утомлённая мысль отрока, не доискивалась выхода, утягивала в забытьё.
6 ноября 1608 года
Сразу после заутрени вновь открылись Конюшенные ворота. Люди Голохвастова выехали на конях, цепью стали вдоль стены по направлению к Служней слободе. Из ворот во множестве вышли крестьяне с кирками и заступами. Пушкари на Житничной и Сушильной башнях нацелили пушки в сторону слободского пепелища. Стрельцы утвердились на стенах.
Заставы Брушевского и Сумы оставались брошенными, и с их стороны нападения можно было пока не ожидать. Со стороны Красной горы – коли и увидят, так не сразу доберутся: пока через овраги перелезут! Но сравнительно недалеко стояли лисовчики. Сам Лисовский, сказывали пленные, в отъезде, но его людишки держат ухо востро.
Ров был намечен, началась работа. Крестьяне копали, спеша и часто оглядываясь, не видя со всех сторон уже привычных спасительных стен. Ров в два аршина шириной быстро рос, удлинялся и углублялся. Земля ещё не успела промёрзнуть и поддавалась легко.
Со стороны Терентьевой рощи и с застав на Ростовской дороге скакали воры – разузнать, что за шевеление возле крепости. Разведчики покрутились вокруг, поскакали назад – жди от них подарка.
Митрий сбежал с Житничной башни – кубарем, рванул к воротам – там краснел верх отороченной соболем шапки Долгорукова-Рощи:
– Скоро ждать!
Воевода приказал сыну строить свою сотню. Встали наизготовку.
Митрий вернулся на башню. Долго вглядывался – ничего не видно. Но вот из-за Терентьевой рощи, в обход её, показались несколько быстро несущихся повозок: на каждой по полдюжины человек. Подскакав близко ко рву, лошади остановились, и люди – по одёже литовцы – скочили на землю, спешно выстроились и взяли пищали на изготовку. Крестьяне с заступами растерялись – лишь Слота успел спихнуть двух ближних людей в ров, – и залп многих бросил на землю: кто упал от страха, кто – получив смертельную рану.
– Прозевали! – ахнул на башне от обиды Митрий. – Не догадались!
Но загремели пушки, нацеленные на место за рвом, а вслед за ними воздух разорвали пищальные выстрелы. Впряжённые в телеги лошади, испуганные и раненые, встали на дыбы, понесли, и литовцы уже не могли вскочить на телеги и укатить.
Зазвенело железо. За пороховым дымом Митрий не сразу заметил, что скачет от Верхнего пруда сотня молодого князя, отрезая литве путь к бегству. Как мальчишка, запрыгал он от радости, разглядев стяг с ликом Святого Спаса, крутнулся вокруг себя – и резко остановился, заметив узкое строгое лицо. Чуть в стороне, у бойницы, стояла та самая девушка, у которой убили отца, – Маша Брёхова. Она прижимала к груди крынку с водой – принесла стрельцам попить. Белое лицо в чёрном платке казалось иконописным, синие глаза взглянули на юношу сурово и печально – и вновь обратились туда, где средь дыма сверкали сабли.
Около десятка литовцев были захвачены в плен. Их тут же отвели к воеводе. Остальные бежали. Их не преследовали.