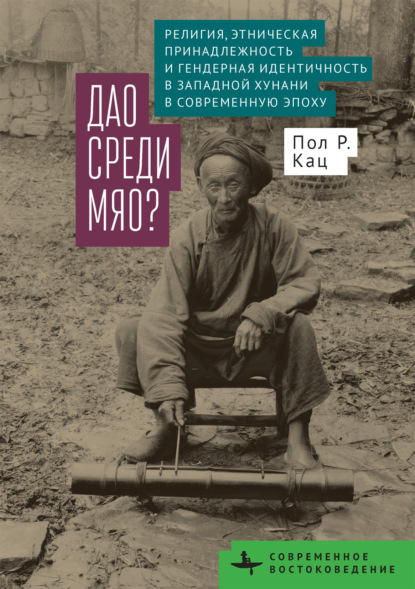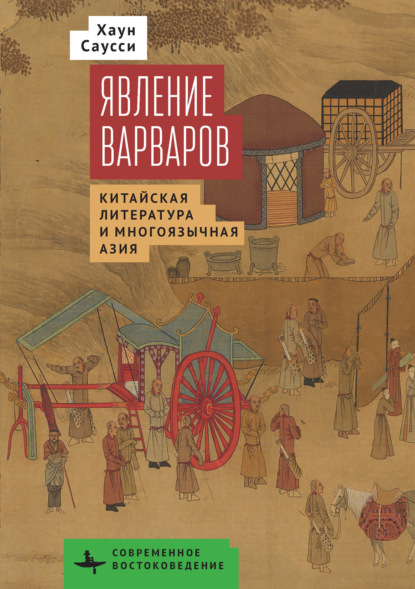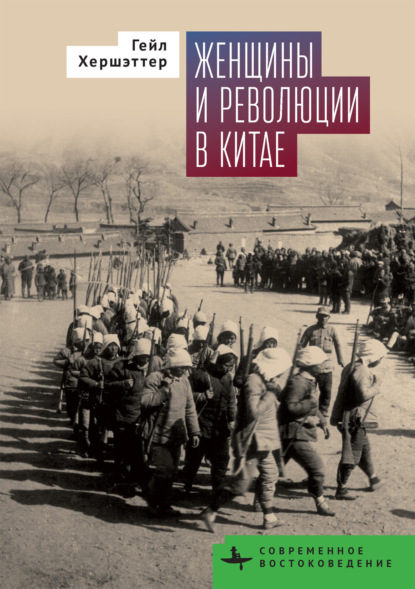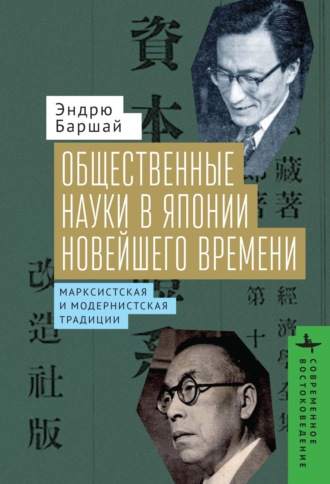
Полная версия
Общественные науки в Японии Новейшего времени. Марксистская и модернистская традиции
Эти разные науки отличают не разные «реальности», которые они исследуют, но формальные процессы изучения, «подходы», которые они развивают и о которых спорят. «Каждая из наук рассматривает одну и ту же социоисторическую реальность через призму своих целей и намерений, и упорядочивает эту реальность в соответствии с ними же» [Bergner 1981: 89]. Точное определение и комплекс общественных наук зависит от исторического и национального контекста. Кроме стремления к объяснению теоретических истин, а также самостоятельного и систематического характера «режима производства репрезентаций», их объединяет убежденность в том, что они могут прикоснуться к реальному. Хотя социальные факты становятся такими, только будучи опосредованы методом или теорией, после этого они приобретают некоторую «понятную плотность», которая может (и должна) быть подтверждена, оспорена, исправлена или вытеснена путем включения в теорию, что тем самым меняет их значимость.
С другой стороны – «дискурс» о социальных фактах. Использование этого понятия имплицитно подразумевает связанные вопросы субъектности (agency) и репрезентации. Спросить, откуда берется дискурс, все равно что спросить: «Кто говорит? Кто может или кто должен говорить? Как – то есть для кого и за кого говорить? Каковы слова, фигуры речи (метафоры), грамматика?» Занятие позиции, утверждение идентичности, исполнение роли в дискурсе неотделимы от вопросов власти: не каждый наделен властью говорить, или говорить так, как он/она хочет. Ограничения или соглашения, которые делают возможными дискурс и субъектность любого рода – от грамматических или семантических «правил», религиозных соображений или канонов науки до «правильного» способа обращения (например) крестьянина-арендатора к землевладельцу или кажущихся тонкостей этикета вечеринки, – также могут превратиться в кандалы. Исторически несправедливо описывать кандалы вынужденного молчания или речи как метафоры. Кроме того, даже в утопическом мире взаимного блага и коммуникативных намерений мы лишь те, кто живет в эпоху после разрушения Вавилонской башни, и даже наши лучшие попытки репрезентации только привлекают внимание к постоянно удаляющемуся объекту наших стремлений. Но мы не оставляем попыток.
Дискурс, таким образом, есть подмножество общественной (социально организованной) практики. Поэтому он не может быть единообразным, не более чем наделенные властью отношения упорядоченной человеческой жизни. Дискурс, как общественная практика, предполагает разделение и конфликт – но не только их. Здесь возможны проявления солидарности; здесь возможно выиграть битву. Борьба за место говорящего и за право говорить, за эффективную репрезентацию не более и не менее реальны, чем другие формы общественной борьбы за интересы, права или справедливость. Дискурс в нашем понимании – интеллектуальная и эмоциональная ткань этой борьбы.
По словам А. Турена, современное (или постиндустриальное) общество вошло в фазу, в которой важным становится не конфликт между общественными классами по поводу организации производства, а, скорее, между общественными движениями из-за разных представлений о целях производства – то есть конфликт в культуре. Такие движения, по мнению Турена, состоят из
…субъекта, то есть человека, который ставит под вопрос приведение историчности к определенной социальной форме. <…> Общественное движение – это одновременно культурно ориентированное и социально конфликтное действие некоего общественного класса, который определяется собственной позицией господства или зависимости в процессе присвоения историчности, культурных моделей инвестиции, знания и морали, к которым он сам стремится [Турен 1998: 68]16.
Если не обращать внимания на подробности аргументации Турена (не каждое общество – индустриальное, а уж тем более постиндустриальное), стоит подчеркнуть многозначительность его понятия историчности: «…совокупности культурных, когнитивных, экономических, этических моделей, с помощью которых коллектив строит отношения со своим окружением». Для Турена именно эта борьба за историчность лежит в центре общества и составляет его «единство» [Турен 1998 (1988): 10]17. Это понятие умело обходит возможную критику того, что теория дискурса отделяет язык от жизни именно по причине того, что в его основании лежат субъектность и действие. Ясно, что моделирование в таких сообществах – это и объект общественных наук, и их деятельность, идеологическая и критическая. Моделирование – синоним производства осознанных, организованных дискурсов «общества» о себе самом – и даже, можно сказать, самокритики. Когда эти модели подвергаются критическому анализу в соответствии с открытыми правилами, они выходят за рамки идеологии и становятся элементом «общественных наук». Именно в этом смысле мир, каким мы его знаем, – и объект, и продукт общественно-научных знаний.
Впрочем, «мир, каким мы его знаем» – проблемное высказывание. Оно имплицитно исторично – как «мир, каким мы его знаем», стал таким, какой он есть? С переходом общественной мысли от философии – например, истории как неумолимого движения гегелевского Мирового духа – к науке, на первый план вышел новый спектр структурирующих метафор, позволяющих представить мир. Можно говорить об исторических «законах движения», столь же определенных, как и законы физики. (Цитируя аббата Мабли: «Является ли общество в таком случае разделом физики?») Можно увидеть, как «мир» – общество – растет, эволюционирует, развивается подобно живому организму, и предположить, что его можно познать с помощью эволюционной науки, подобной биологии. Механическая метафора особенно удобна для выражения воли к преобразованию, о которой говорилось выше, и по этой причине, похоже, она стала занимать позицию относительного доминирования над биологической в общественной мысли: она позволяла человеческой субъектности вмешиваться в естественный социальный процесс, ускоряя или направляя его к какой-либо воображаемой цели. Последствия влияния «мягких» информационных технологий и генной инженерии на репрезентацию воли к преобразованию находятся если не за пределами наших интересов, то уж точно вне нашей компетенций.
Если только что приведенный черновик ответа отражает «объективный дух» общественных наук в какой-то момент прошлого, то отражает ли он его и в наши дни? В своем эссе о том, что он называет «рефигурацией социального мышления», Клиффорд Гирц предполагает, что это не так. Исследуя последние два десятилетия в истории общественных наук, Гирц выделяет «культурный сдвиг», состоящий из трех сходящихся тенденций. Первая – «огромное количество смешения жанров», «размывание видов», которое стало обычным явлением в интеллектуальной жизни. Вторая:
Многие обществоведы отказались от идеального объяснения «законов и случаев» в пользу случаев и интерпретаций и стали реже искать связь между планетами и маятниками в пользу связи между хризантемами и мечами. <…> Аналогии, взятые из гуманитарных наук, начинают играть такую же роль в общественных науках, какую аналогии, взятые из ремесел и технологий, уже давно играют в физике.
Наконец, что очень важно, Гирц «не только считает эти вещи истинными… они истинны в совокупности». Они представляют собой «интерпретативный поворот», который привел к «пересмотру направления дискурса в социальных исследованиях». «Инструменты аргументации, – считает Гирц, – меняются» [Geertz 1983: 19, 23].
С несколько иной, но родственной точки зрения, социолог Зигмунт Бауман утверждает, что в течение XX века «интеллектуальная практика (praxis)» на Западе претерпела изменение в своих доминирующих формах, перешла от того, что он называет «законодательной», к «интерпретационной» деятельности [Bauman 1987]. Используя в качестве примера французских философов (philosophes) эпохи Просвещения и их преемников в république des lettres, Бауман описывает типичного, современного «интеллектуала» (термин, введенный только в XX веке) как потенциального «законодателя»; самостоятельная задача таких интеллектуалов состояла в следующем:
…создании авторитетных заявлений, которые являются основополагающими в конфликтах мнений и отборе тех мнений, которые, будучи отобранными, становятся правильными и обязательными. Право быть авторитетом в данном случае легитимируется высшим (объективным) знанием, к которому интеллектуалы имеют больше доступа, чем неинтеллектуальная часть общества. Доступ к таким знаниям становится лучше благодаря процедурным правилам, которые обеспечивают достижение истины, выработку правильных моральных суждений и установление правильного художественного вкуса. Такие правила имеют универсальную ценность, как и продукты их применения. Использование таких процедурных правил делает представителей интеллектуальных профессий (ученых, философов-моралистов, эстетиков) коллективными обладателями знаний, имеющих прямое и решающее значение для поддержания и совершенствования социального порядка [Ibid.: 4–5].
Современные интеллектуалы, по мнению Баумана, «не связаны локализованными, общинными традициями». Они вместе со своими знаниями экстратерриториальны. Это дает им право и обязанность подтверждать (или опровергать) убеждения, которых могут придерживаться в разных слоях общества» [Ibid.: 5].
Универсалистские амбиции типичного интеллектуала – амбиции, воплотившиеся самым что ни на есть восхитительным образом в революционных предложениях в сфере образования Дестюта де Траси, Кондорсе и Робеспьера, – были оспорены, если не заменены, постмодернистским способом интеллектуальной деятельности, который для Баумана «лучше всего характеризуется метафорой роли “интерпретатора”»:
Она заключается в переводе высказываний, сделанных в рамках одной общей традиции, таким образом, чтобы их можно было понять в рамках системы знаний, основанной на другой традиции. Вместо ориентации на выбор наилучшего социального порядка, эта стратегия направлена на облегчение коммуникации между автономными (отдельными) участниками. Она озабочена предотвращением искажения смысла в процессе коммуникации. Для этого она предполагает необходимость глубокого проникновения в чужую систему знаний, на основе которой будет осуществляться перевод (например, «плотное описание» Гирца), и необходимость поддержания тонкого баланса между двумя традициями собеседников, необходимого для того, чтобы сообщение было как неискаженным (в отношении смысла, вложенного отправителем), так и понятым (получателем) [Ibid.: 5].
Устанавливая эти два идеальных типа и их деятельность в качестве «структурного элемента внутри общественной конфигурации» [Ibid.: 19], Бауман тщательно прослеживает конкретные, даже аномальные исторические условия, в которых возник, расцвел и исчез интеллектуал модерна; другими словами, перевод модерности в постмодернизм. Синдром «знание – сила», лежащий в основе интеллектуального универсализма, по его мнению, возник в контексте европейского, особенно французского, абсолютизма, в котором
прогрессирующий упадок старого правящего класса, дворянства… оставил зияющие пустоты среди факторов, необходимых для восстановления социального порядка: чтобы заполнить их, требовалась новая концепция общественного контроля вместе с новой формулой легитимации политической власти [Ibid.: 25].
Прототипы интеллектуалов модерна заполнили эти пустоты, возглавив культурный «крестовый поход» против традиционной (церковной) власти, массового сознания и образа жизни, что позволило государству проникнуть в общество гораздо глубже, чем оно когда-либо стремилось. Светила выполнили важнейшую задачу, но при этом обрекли свое интеллектуальное потомство на увядание – точнее, на фрагментацию и переход во все более специализированные отделы культурной жизни модерности. У них осталась мечта о беспрепятственной дискуссии, ведущей к непринужденному консенсусу граждан нематериальной Республики писем; отсюда и появление в начале XX века коллективного самоназвания «интеллектуал» как «призыва к сплочению и попытки исполнить невыполненные требования прошлого» [Ibid.: 23]. С одной стороны, государство обрело такую «уверенность в эффективности методов охраны порядка, наблюдения, категоризации, индивидуализации и других методов современного бюрократического управления» [Ibid.: 106], что вряд ли нуждалось в советах специалистов по контролю и национализации масс. Помимо специфических забот государства, «дискурсы истины, суждения и вкуса» были «захвачены другими силами – автономными институтами специализированных исследований и изучения» [Ibid.: 158]. «Интеллектуал становится теперь понятием, которое отделяет носителей культуры не только от необученных, невежественных, примитивных и прочих некультурных людей, но и от многих ученых, техников и художников».
С этой бюрократизацией власти и культуры – появлением того, что мы бы назвали «уполномоченным обществом», – как отмечает Бауман, роковым образом переплелась глобализация рынка; и именно эти параллельные процессы национализированных масс в бюрократических государствах, по мнению Баумана, формируют предпосылки постмодернизма. (Мы оставим в стороне рассказ о распространении культуры потребления.)
Очевидно, что в контексте культуры потребления не остается места для интеллектуала как законодателя. В условиях рынка нет ни единого центра силы, ни желания создать такой. <…> Нет позиции, с которой можно делать авторитетные заявления, нет и ресурсов силы, сконцентрированных и эксклюзивных настолько, чтобы послужить рычагами массовой прозелитической кампании. При этом традиционные, реальные или желаемые средства «интеллектуального законодательства» отсутствуют. Интеллектуалы (как и все остальные) не имеют контроля над рыночными силами и не могут реально рассчитывать на его приобретение. Культура потребления означает тип общества, весьма отличный от того, в котором зародилась традиция les philosophes, историческая основа живой памяти интеллектуального законодательства, на которое она была ориентирована [Ibid.: 167].
В условиях, когда зона их деятельности была уменьшена, а авторитет подорван, интеллектуалы взяли на себя описанную выше роль интерпретаторов. Мир не только плюрализирован и, похоже, не способен выработать «консенсус по вопросам мировоззрения и ценностей»; рынок, его главная интегрирующая сила, не может даже смириться с попыткой сделать это. А поскольку государства вынуждены, так сказать, следовать за рынком в попытке утвердить свою легитимность, возможность «коммуникации между культурами становится главной проблемой нашего времени». Для интеллектуалов, ищущих свою роль в этом новом мире, утверждает Бауман, выбор (для них и для мира) следующий: «говорить или погибнуть» [Ibid.: 143]. Если предположить, что «дискурсивное искупление» современности возможно осуществить, или, по крайней мере, что невозможность какой-либо формы разговора между «сообществами» может быть выведена за скобки, возникает вопрос определения роли интерпретатора или переводчика между этими «формами жизни» [Ibid.: 25]; или «проведения границ такого сообщества, которое может служить территорией для законодательных практик».
Определение таких ролей, однако, неизбежно зависит от предварительного суждения о социально-историческом положении – если не стадии – данного национального общества. Как отмечает Бауман, постмодерность и модерность продолжают сосуществовать, причем первая фактически «немыслима без завершения второй» [Ibid.: 5]. Предпосылкой постмодерности, другими словами, является модерность – глобальный рынок потребительских национальных культур, политически национализированных масс и бюрократических государств. Однако не у всех стран эти характеристики возникли одновременно и развились в равной степени. Среди прочего это может означать, что «постмодерность» описывает мир, в котором одно общество оказывается усеяно фрагментами, приносимыми волнами товаров из другого, с чрезвычайно отличным образом жизни; и что по технологическим причинам это состояние гетерогенности теперь может быть воспринято в его одновременности. Тот факт, что некоторые дети в Сомали знают, кто такой Майкл Джексон, не имеет такого же социального значения, как, например, в Сингапуре.
Более конкретное историческое соображение возникает из подозрения: предположим, что Бауман преувеличивает успех антитрадиционных кампаний, возглавляемых философами. Предположим, что унифицирующие императивы и интеллектуалов, и государства не работают. Предположим, что даже рынок, мнимый разрушитель всех частностей и культурного абсолютизма Просвещения и его потомков, не проник в своем влиянии так глубоко, как утверждает Бауман. Во многих обществах, особенно в тех, куда промышленная модернизация пришла «поздно», по мировым меркам, «модерность» определяется сочетанием существенной преемственности старых элит и традиционных (сельских) моделей общественных взаимоотношений с модернизационными импульсами, связанными с новыми элитами и другими образованными слоями. Более того, то, что Э. Блох назвал «несинхронностью» (Ungleichzeitigkeit) в развитии, является не просто вопросом бессознательной передачи чего-либо от прошлого к настоящему, но и его стратегическим закреплением в неотрадиционалистских идеологиях, которые утверждают возможность «прыжка» через наиболее дезинтегративные аспекты индустриальной модернизации в постмодернизм, сохраняющий старый общинный образ жизни. (Такие утверждения принимают как государственные, так и популистские формы.) В конечном итоге ни одно национальное общество не может быть полностью изолировано от мира. Но даже в этом случае импликация неоднозначна. С одной стороны, местные (то есть национальные и субнациональные) элиты не могут избежать политического и экономического давления «демократизированного потребления», которое толкает сознательную несинхронность в объятия невольной одновременности. С другой стороны, международное разделение труда помогает местным элитам противостоять такому движению. Хотя неоимпериалисты и теоретики зависимости известны своими преувеличениями, не стоит отвергать идею о том, что развитие иногда означает продолжение извлечения прибавочной стоимости из обществ через увековечивание и даже воссоздание докапиталистических зон или отношений среди их трудового населения18.
С точки зрения социологии общественных наук обсуждение Гирца и Баумана, казалось бы, позволяет сделать два вывода: Во-первых, поскольку общественные науки – это науки о текущей «рационализации», ее законодательный или интерпретационный характер будет меняться в зависимости от места, а место не может быть ничем иным, кроме как некой совокупностью. Историческая задача состоит в том, чтобы понять взаимодействие этих двух режимов в конкретных контекстах; увидеть, насколько эти контексты обуславливают возможность и общую эффективность – как бы это ни измерялось – законодательного-или-интерпретационного режима деятельности. Во-вторых, как и в случае с товарами, в международной интеллектуальной экономике может иметь место нечто сродни эффекту демонстрации, так что определенные стили дискурса, проблемного сознания и практики, несмотря на их кажущуюся неприменимость к местным условиям, принимаются19. Конечно, изменчивость в континууме «законодательство – интерпретация» может отражать не только национальные/культурные различия, но и дисциплинарный характер разных стран: в своей реакции на интерпретационный поворот одни дисциплины «жестче», другие «мягче». Действительно, если бы не различия и конфликты внутри дисциплин и между ними, то общественных наук вообще не существовало бы. Правильное понимание общественных наук как интеллектуальной истории означает иметь в виду именно двойную структуру (а) локальных и глобальных «историчностей», которые составляют объект исследования общественных наук; и (б) степень локальной и глобальной адаптивности различных дисциплин, которые осуществляют такое исследование. Тот факт, что мы занимаем интерпретативную позицию, несомненно, отражает некоторые тенденции, выявленные Гирцем и Бауманом: мы не претендуем на власть законодателя над японскими общественными науками, тем более над Японией. Но это не значит, что наш объект разделяет эту позицию по отношению к самому себе. Важно не смешивать высказывание с объектом, не смешивать метод и содержание. Написать историю японских общественных наук – значит провести интерпретативное исследование законодательного дискурса, который в течение длительного периода гегемонизировался неотрадиционным государством и его коммунитарными идеологическими проекциями – и противопоставлялся якобы универсальной науке марксизма. Но это также и изучение дискурса в процессе его трансформации.
Общественные науки и рационализация
По меньшей мере на протяжении полувека после открытия страны в 1850-е годы японцы думали не о «модернизации», но о «вестернизации», и только потом, когда процессы уже укоренились, они заговорили о себе как о японцах и, следовательно, как о современной (модерной) нации. Почему именно «западное» стало основой «модерного», как в общем институциональном смысле, так и в вопросах общественных наук?
На ум приходят множество частно-исторических, даже неожиданных примеров – или признаков – этого феномена: наука, паровая энергия, сталепрокат, тяжелое вооружение, акционерные компании, конституционализм, национальные государства и, наконец, империи. В своем классическом и даже противоречивом анализе зарождения модерности Вебер проводил границу между своеобразным динамизмом Запада и формальной рациональностью его главных экономических и бюрократических институтов. Для Вебера, как отмечает Дерек Сайер:
Рационализация… подразумевает систематичность, постоянство, метод; либо как склад ума, либо как принцип структурирования организаций; она подразумевает исключение всего произвольного, и прежде всего исключение всего, что она называет «магией». Рациональность – это расчетливое применение правил.
Похоже, именно формальная рационализация – что Сайер называет «широкой механизацией человеческой общественной жизни» – находилась в центре мощи Запада. Другими словами, Запад был эффективным и аффективным, «Другим» для «магии» и традиции, не только своих, но и других народов (на «Востоке») [Sayer 1991: 114, 155]. Вебер проводил разницу между формальной и материальной рациональностью. Под формальной рациональностью Вебер подразумевал тот тип социального действия, который ориентирован «на цель, средства и побочные следствия и при этом рационально взвешива[ется]». Но сами цели – например, накопление или работа сама по себе – были случайными и формально нерациональными. Однако они могут быть «ценностно-рациональными»: это характеристика социального действия, которое реализуется «без оглядки на возможные последствия, согласно убеждению в том, что поступать именно так таких как велят долг, честь, красота, вера, благочестие или другая ценность, все равно какой природы». В экономической сфере «ценностно-рациональное действие» – это степень, в которой «снабжение определенных (любых по составу) человеческих групп» товарами регулируется «ценностными постулатами». Эти постулаты могут быть этическими, политическими, утилитарными, гедонистическими, сословными, эгалитарными или «бог знает какими еще»; важно то, что «результаты пусть даже самого рационального, т. е. счетного хозяйствования» соизмеряются с этими ценностями и подчинены им20.
Метод Вебера был вдохновлен ницшеанскими представлениями о том, что модерность сделала такие ценностные постулаты вопросами выбора или обязательств (какими бы благородными они ни были), а не воплощениями объективных добродетелей. Он, очевидно, боялся, что в «реальном» мире само различие, на котором покоилась его социологическая теория, оказывалось утраченным: формальная рациональность, ставшая самоцелью, – ирррациональна. Именно она, а не достижение выгоды кажется максимальным бюрократическим искушением. И действительно, опасения Вебера о вероятных последствиях смешения формальной и целерациональностей только усилились, когда в последние годы его жизни в новой, социалистической России партия и государство стали претендовать на воплощение материальной общественной рациональности. Для него ужасная «борьба богов» которые воплощали цели и мировоззрения, обещала не более и не менее чем «полярную ночь ледяной мглы и суровости, какая бы по внешней видимости группа ни победила»21.
Но так было не всегда. Модерность, в том виде, в котором она возникла на Западе, нашла свое типическое выражение в так называемых общественных науках – политэкономии и истории, с их победоносным нарративом накопленных институциональных достижений. В них входили стихийный рост промышленного капитализма, постфеодальная и постабсолютистская формы государства: вкратце – либеральный порядок. Если бы мы писали карикатуру, то в этом порядке обитали бы патриотичные и разумно религиозные Робинзоны Крузо. «Модернизация», как это назовут позднее, считалась не только неотвратимой, но и желательной, процессом не только формальной, но и материальной рационализации; после нее социологи и политологи могли искать – и искали – способ управления этапами развития общества. Скорее, это было характерно для позитивистов и сторонников точных наук; но метод Verstehen (понимания) не избежал превращения в инструмент силы. «Модернизация» представляла собой не только стандарт суждения о мире, но лицензию на порабощение как пролетариев, так и «туземцев». И тогда в основе общественных наук лежало представление и вера в рост, развитие и прогресс, которые буквально не знали границ.